
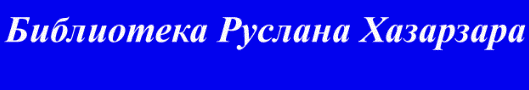

|
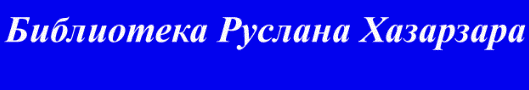
|
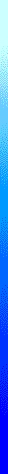
|
ТАЛМУДЭТЮДЭМ. ДЕЙТША,
библиотекаря британского музея в Лондоне
Перевод с седьмого издания
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕА. Е. ЛАНДАУ
С.-ПЕТЕРБУРГ Типография и литография А. Е. Ландау 1877
Предисловие к первому русскому изданиюВ октябре 1867 года, в английском журнале «Quarterly Rewiew», органе английской ортодоксии и торийской партии, появилась статья библиотекаря британскаго музея Э. Дейтша, под заглавием «What is the Talmud?» Статья эта обратила на себя всеобщее внимание английской журналистики и до января 1868 г. она, в отдельной брошюре, пережила сем изданий. Вслед за тем, сочинение Дейтша переведено было на все европейские языки, не исключая и польского, и в переводах тоже пережило по нескольку изданий. Такой неслыханный почти успех книги доказывает, с одной стороны, ее неоспоримое достоинство, а с другой стороны, из этого не менее ясно явствует, что в такой книге чувствовалась настоятельная необходимость. Если же такая книга была необходима в западной Европе, в Англии, Франции, Германии, Италии и т. д., где существует множество сочинений по этому предмету, и публика более или менее знакома с еврейско-талмудическим мировоззрением, то тем более она необходима у нас в России. Русская публика, не только о Талмуде, но вообще об иудаизме, не только ничего не знает — это бы еще куда ни шло, — но имеет обо всем этом самые превратные понятия, что гораздо хуже. Все сочинения русских литераторов и публицистов, не только оригинальные, самостоятельные, отличаются — за исключением двух, трех, но не более — совершенным незнанием предмета, о котором они толкуют, но даже публицисты-компиляторы, составлявшие свои книжки по еврейским авторам, как-то ухитрились сообщить то, чего вовсе нет у еврейских авторов и умолчать о том именно, что в них есть самого замечательного. Мы уже не говорим о тех писаках, которые чрез ночь стали учеными знатоками еврейской истории и литературы с единственною целью — но будем лучше молчать об этих личностях и об их целях. Между тем, едва ли есть еще страна, где знакомство с иудаизмом было бы так необходимо, как в России, где живет целая треть всех евреев земного шара, и где все еще существует какой-то еврейский вопрос — вопрос столь избитый, решенный и перерешенный во всех других европейских государствах, но не решенный еще у нас в России, и именно потому, что мы не знаем, что такое иудаизм. Поэтому всякое сочинение, беспристрастное и добросовестное, которое в состоянии разъяснить русской публике этот вопрос, имеет, нам кажется, громадную важность, а тем более такое сочинение, как Дейтша, которое в легкой, общедоступной форме, знакомит публику, так сказать, с основою иудейства — в том смысле, как понимают его в России — с Талмудом. А. Л. С.-Петербург, 1-го сентября 1870 года.
Еврейский вопрос и знание иудаизма у нас все в том же положении, в каком они были при появлении первого издания предлагаемого сочинения Дейтша. Поэтому все, сказанное в предисловии к первому, может также относиться и ко второму изданию этого этюда. С.-Петербург, Ноябрь 1876 года.
IЧто такое Талмуд? В чем состоит сущность и свойство того своеобразного произведения, имя которого почти незаметно начинает занимать место между обыденными словами, употребляемыми в Европе? На какое бы поприще современных исследований мы не обратили наш взор, везде нас как будто встречает это загадочное слово. Не только на поприще богословия, где неология[1] и вера в букву одинаково на него ссылаются, не только в разнообразных отраслях науки, в самом обширном смысле этого слова, но даже и в изящной словесности, на больших дорогах, как и на проселочных, вы встретитесь с этим названием. Едва ли можно найти какое-нибудь хорошее руководство по какой-нибудь отрасли библейского исследования, как-то: географии, истории, времяисчислению, нумизматике, которое не содержало бы в себе указаний на Талмуд. Не только исследователи на поприще иудейства или христианства вынуждены прибегать к этой книге при анализе догм обрядов и преданий, но и исследователи магометанства и зороастризма тоже стали искать в ней ключ к разрешению той или другой загадки, так как в Талмуде именно связь всех этих разнообразных фазисов веры выдается самым ясным образом. С другой стороны, мы едва ли найдем какое-нибудь новое исследование археологического, антикварного или филологического содержания — все равно, будь это объяснение какой-нибудь финикийской алтарной надписи или клинообразно исписанной доски, вавилонских весов или сассанидских монет, — в котором то и дело, как в тексте, так и в примечаниях, не говорилось бы о Талмуде. И не только восстановители исчезнувших идиомов Ханаана и Ассирии, Химиара и зороастрической Персии прибегают за советом к Талмуду, но и новая школа греческой и латинской филологии начала все более и более пользоваться богатыми сокровищами классического материала, рассеянного в этом творении. Точно также и юриспруденция пришла теперь к убеждению, что не говоря уже о разнообразных и весьма интересных отношениях между пандектами и институциями и Талмудом, а также между римскими и александрийскими школами правоведения с одной, и палестинскими и вавилонскими с другой стороны — в этой книге можно еще найти следы уже давно забытых правовых воззрений, как например, вошедших в пословицу «мидян и персов». Медицина, астрономия, математика, философия и история всех этих наук за тот период времени, в течение которого — около тысячи лет — составлялся Талмуд, не могут быть основательно исследуемы без посредства этого древнего и колоссальнаго энциклопедического творения. Ибо чужое и свое, самое великое и самое малое, исчезнувшее из памяти всякой истории, тихо хранится здесь в ожидании своего воскресения. Но кроме этих вещей, непосредственное право на которые принадлежать специальным наукам, в Талмуде заключаются еще другие, может быть, гораздо более важные вещи, которые касаются человеческой культуры в самом обширном смысле этого слова. Каждый день из этой глубины восстают пред нами новые картины: образа из Эллады и Византии, Египта и Рима, Персии и Палестины; картины храма и форума, войны и мира, радости и горя; картины, полные жизненной силы, блистающие самыми яркими красками. Ecce signum temporis — таково знамение времени! Великий перевворот совершился с нами. Мы, дети новейшей эпохи, поклоняемся прежде всего принципу пользы. Мы теперь уже не читаем Коран, Зендавесту, Веды, с исключительным намерением богословски опровергать их. Мы, напротив, смотрим на всякую литературу, какого бы рода и вида она ни была, где бы она ни была произведена, как на часть человечества, как на часть от нас самих. Мы чувствуем, что имеем право на это, что мы за это ответственны. И потому мы прежде всего стараемся постичь культурную ступень, которой мы обязаны какой-либо частью этого великого наследства нашего, понять дух, которым она проникнута. С глубоким благоговением мы опять опускаем то, что в них подлежит разложению, но мы с радостью приветствуем то, что способно еще жить. Мы обогащаем ими сокровища нашего знания и умения, нас потрясает их поэзия, высокие и священные чувства пробуждаются в нашем сердце, когда эта поэзия затрагивает в нем божественные струны. В этом чисто человеческом смысле мы теперь начинаем говорить также о Талмуде. Да, почти близка даже опасность, что то рыцарское чувство — один из самых трогательных признаков нашего времени — которое постоянно побуждает нас приносить все новыя искупительные жертвы памяти тех, которым прежние поколения причиняли несправедливости, что это чувство может повести к преувеличению значения этой книги. В виду все умножающихся доказательств ее достоинства, мы действительно можем придти к некоторому преувеличению ее значения для истории человечества. Но ее собственная любимая поговорка гласит: «Прежде всего учись. Для самой ли науки, или для какой-нибудь другой цели — учись. Ибо очень скоро, с какой бы целью ты ни начал учиться, ты полюбишь науку из-за самой науки». И в этом смысле, даже слишком большие ожидания о сокровищах которые можно найти в Талмуде, также могут иметь свое достоинство, так как они поведут пока к исследованию самого произведения. Здесь же, с самого начала, мы считаем необходимым заметить, что все разнообразные напоминания о его существовании, встречающиеся в некоторых новейших сочинениях, суть большею частью ничто иное как блуждающие огни. При первом взгляде можно подумать, что никогда не было еще книги, которая пользовалась бы большею популярностью и в такой степени исключительно составляла бы средоточие, на которое направлялись исследования наших ученых, особенно богословов и ориенталистов. Но каково оно на самом деле? Как ни парадоксально это покажется читателям, но все-таки мы решительно должны высказать, что никогда еще книга не была так часто цитируема всеми и в то же время так мало изучаема. Мы охотно прощаем Гейне, когда читаем в «Романсеро» его фантастически-симпатичное изображение Талмуда, хотя он никогда своими главами не видел, вероятно, предмета, изображаемого им. Подобно Шиллеру, который всю свою жизнь напрасно томился желанием хоть раз взглянуть на Альпы, и все-таки оставил самую блистательную и верную картину этого горного мира, так точно и Гейне, с присущим поэту божественным инстинктом, угадал истину из верных и даже неверных сообщений. Но мы желали бы поставить вопрос: на сколько все рассеянные повсюду ученые цитаты, действительно взяты из талмудических источников? Уже слишком часто и, к сожалению, уже слишком ясно видны в них — говоря сельскохозяйственным сравнением Самсона — лишь дряхлые и изнуренные телята, те «Tela ignea Satanae», те «линовища» и все их ядовитые гады, которые теперь снова прикрепляются к плугу многими из наших ученых. «Наших ученых» говорим мы, ибо, что касается публики вообще, то мы ни на минуту не сомневаемся, что, как часто в последнее время ни употребляется это слово, все-таки есть еще очень многие, которые все еще разделяют мнение ученого капуцина Генриха Сейнензия, что Талмуд — не книга, а человек. «Ut narrat Rabbinus Talmud» («как раввин Талмуд рассказывает»), восклицает он и торжествующим тоном подтверждает таким образом свой аргумент.
IIНо и у тех, которые уже знают, что мы тут имеем дело с книгой, а не с человеком, разве у них не существуют еще самые странные понятия об этом произведении? Кто его написал? Какое его содержание? Его объем? Когда его сочинили и в каком месте? Еще очень недавно один из первых наших (английских) органов называл его «сфинксом, на который в наше время обращены взоры всех, одних с сильным любопытством, других — с какой-то безотчетною боязнью». Но почему, скажите ради Бога, мы не открываем уста этому сфинксу? Как долго мы еще будем осуждены жить цитатами, уже тысячи раз употребленными, тысячи раз злоупотребленными? Но где же мы должны искать хоть элементарные сведения об этом предмете? где мы должны искать историю этой книги, ее положение в литературе, смысл, ее цель и прежде всего ее отношения к нам самим? Если мы обратимся к маститым «авторитетам», то мы большей частью увидим, что в своем рвении служить так называемому «делу», они вырывали клочки из этого живого колоссального тела, и поднесши нам эти ужасные анатомические препараты, обезображенные так, что их невозможно было и узнать, говорили: вот она, эта книга! — Иногда они поступали еще гораздо хуже. Они не приготовляли проб, но выбирали известные вещи и подавали нам их так, как они их находили. Потом, отойдя в сторону, они с ироническими гримасами указывали на них. И должно сознаться, их искусные произведения были по истине чудны. Со всеми этими мудрыми и разумными исследователями случилось несчастье, что они смешивали кариатиды, эти безобразные каменные карикатуры, поставленные набожною рукою мастера, как вечную стражу над нашими готическими соборами, с блестящими иконами внутри храмов. И указывая на них пальцами, они с диким смехом восклицали: вот они, твои Боги, Израиль!.. Да не извратят нашу мысль. Если мы жалуемся на недостаток руководителей к познанию Талмуда, то ничто в мире так не далеко от нас, как неблагодарность к тем серьезным мыслителям, в особенности наших времен, которые обратили свое внимание на этот предмет, к тем людям, имена которых никогда не должны быть произнесены без уважения, каковы: Цунцы, Гейгеры, Герцы. Мы называет, лишь некоторых главных деятелей, которых глубокие и проницательные исследования всегда были у нас на виду. Хотя во всей области науки едва ли найдется одна отрасль исследования, которая по трудности могла бы соперничать с Талмудом, но нет, однако, основания полагать, что если бы только кто-нибудь имел время, терпение и знание, то в многочисленных древних и новых библиотеках, не мог бы найти превосходных указаний и сочинений монографий и очерков, книг и журналов, посредством которых и при помощи самого Талмуда, он мог бы добиться известной ясности о существе и цели, происхождении и развитии этого творения. Но, насколько мы знаем, эта работа, при которой — мы сознаем это — на всяком шагу угрожает западня, пока еще для обыкновенной публики не предпринята. По весьма основательной причине, мы на заглавном листе нашего труда выставили одно только название Талмуда. Мы повсюду искали специальное сочинение об этом предмете, которое мы могли бы сделать темой для наших замечаний и вариаций; мы искали книгу, которая состояла бы не из одних только бессвязно вырванных из известного «Введения» переводов, подмешанных руганью и пополненных нелепостями, но которая с точки зрения новейшей культуры беспристрастно высказалась бы о творении, которое, если не другими достоинствами, то уже одной своей древностью по меньшей мере внушает к себе уважение; мы искали книгу, которая служила бы для нас руководящей нитью чрез гигантские лабиринты всевозможных фактов, мыслей и фантастических образов, из которых состоит Талмуд; книгу, которая приветствовала бы и иероглифические сказки, и странные, темные аргументации и силлогизмы, прощала бы даже сильные взрывы страсти и не произносила бы опрометчиво своего приговора над такими вещами, истинный смысл которых нередко, и по весьма понятным причинам, может быть отыскан под бубенчиками дурацкой шапки. Мы не нашли подобной книги, ни даже приблизительно похожей. С этим обстоятельством связано и то, что мы, волей-неволей, должны были указать здесь на первые издания Талмуда, хотя с тех пор уже печаталось множество новых изданий, и около 20 еще в настоящее время находится под станком. Даже самые первые издания печатаемы были с особенной поспешностью и без всякого необходимого старания, а всякое следующее издание, за одним или двумя исключениями, представляет собой отвратительный вид в типографском отношении. В базельском издании 1578 г. — третье по времени и с тех пор почти исключительный образец всех прочих изданий — впервые выступил на сцену «Цензор». В своем страхе за «веру», которую он обязан был охранять от всякой опасности — ибо полагали, что Талмуд под самыми невинными невидимому словами и выражениями непременно скрывает всевозможные злостные намерения против христианства — этот добросовестный чиновник совершал самые причудливые подвиги. Если он в книге находил, например, что какой-нибудь древний римлянин клянется Капитолием или Юпитером «Рима», то он уже чуял опасность. Без сомнения, должно быть в своем рвении рассуждал он, под этим римлянином разумеется христианин, Капитолий — это ничто иное как Ватикан, а Юпитер — папа. И вот слово «Рим» тотчас же вычееркивается, и вместо него приискивается какое-нибудь другое, в эту минуту особенно понравившееся цензору. Особенную страсть цензор этот, по-видимому, имел к Персии, но иногда также к Араму и Вавилону. Так и теперь еще этот достойный римлянин клянется персидским Капитолием и арамейским или вавилонским Юпитером. Но там, где встречалось слово «язычник», там цензором обуял дикий ужас. «Язычник» не может быть никто иной, как христианин, все равно жил ли он в Индии или Афинах, в Риме или Ханаане, все равно также добрый ли он язычник — а таких много в Талмуде — или дурной. Тотчас же этот язычник преевращался в «египтянина», «арамейца», «амалекита», «аравитянина», «негра», словом, смотря потому, в каком настроении находилась тогда фантазия цензора — иногда даже в целый «народ». Мы здесь строго держимся фактов. Все это буквально можно найти в самых последних изданиях Талмуда. Один или два раза сделаны были попытки очистить текст от его безобразных пятен. Несколько лет тому назад даже приступили было к критическому изданию, в роде тех, какие существуют уже давно не только для греческих и римских, санскритских и персидских классиков, но и для всякой дряни, написанной на одном из этих языков. При том, несмотря на противоположное ошибочное замечание Ренана[2], вовсе нет недостатка в талмудических рукописях, хотя они большею частью весьма отрывочны. Бесчисленные списки, пополнения и поправки можно найти в кодексах Бодлейаны и Ватикана, в библиотеках Одессы, Мюнхена и Флоренции, Гамбурга и Гейдельберга, Парижа и Пармы. Но злой рок по-видимому преследует эту книгу. Упомянутое критическое издание остается недоконченным обломком, подобно первым двум томам перевода Талмуда, начатого в различные времена, но которого вторые тома никогда еще не видели света. Поэтому мы считали целесообразным указать на Editio priceps, как на такое издание: которое по крайней мере осталось свободным от цензурных искажений позднейшего времени. Талмуд не без основания может пополнить древнее изречение: «Habent sua fata libelli», словами: «даже священные свитки в кивоте»[3]. Мы в самом деле не удивляемся, что упомянутый выше добрый капуцинский монах принял Талмуд за человека. С тех пор как он существует, даже еще прежде, чем он существовал в реальной форме, с ним действительно обращались почти как с человеческим существом. Сотни раз его изгоняли, арестовывали и сжигали. Начиная с Юстиниана, который около 553 г. по Р. X. удостоил его особой новеллы[4], и до Клементия VIII и еще позже — слишком тысячелетний период — светские и духовные власти, короли и императоры, папы и антипапы, соперничали между собою в анафемах, буллах и эдиктах, направленных против этой несчастной книги, и в декретах о ее конфискации и сожжении. Так Талмуд, менее чем в пятидесятилетний период времени, а именно в последней половине шестнадцатого столетия, был публично сожжен не менее шести раз, и не в отдельных экземплярах, а во всем своем составе, целыми массами. Юлий III, в 1553 и 1555 годах, издал свой манифест против того, что он — смешно припомнить — называл «Гемарот талмуд»[5]. Павел IV — в 1559 г., Пий V — в 1566, Клементий VIII — в 1592 и 1599 гг. Даже Пий IV, разрушая предпринять новое издание, поставил необходимым условием, чтобы оно появилось без заглавия «Талмуд». «Si tamen prodierit sine nomine Talmud tolerari deberet»[6]. Словом, Талмуд сделался, по-видимому, каким-то шиболет, которым всякой новый властитель должен был доказать строгость своей веры. И уже очень строга, должно быть, была эта вера, если судить по тому языку, который в этом отношении не гнушались употреблять самые высшие сановники церкви. Так Гонорий IV, в 1286 г., пишет архиепископу кентерберийскому об этой «достойной проклятия книге» (liber damnabilis), серьезно предостерегает его и «настоятельно (vehementer) требует, чтобы он наблюдал за тем, чтобы никто не читал этой книги, «так как отсюда проистекает всякое другое зло». Грустно, право, читать все эти документы! — Только иногда на уста читателя невольно появляется улыбка, когда какая-нибудь выходящая из ряда вон нелепость, как молния освещает на минуту всю эту страшную пропасть невежественной и грубой ненависти. Но среди этого Вавилона разных манифестов, мы припоминаем одно замечательное исключение. Клементий V, имея в виду обнародовать новый осудительный приговор, захотел, по крайней мере, хоть что-нибудь знать о книге, которую он должен был осудить. Но никто, по-видимому, не был в состоянии представить ему удовлетворительные сведения. Вследствие этого он предложил, правда, в весьма темных, допускающих всевозможные толкования, выражениях, учредить три кафедры для языков — еврейского, халдейского и арабского, которые преимущественно употребляются в Талмуде. Избранные им для этой цели университеты были: Парижской, Саламанкский, Болонский и Оксфордский. Со временем, полагал он, один из этих университетов в состоянии будет представить перевод этой таинственной книги. Нужно ли еще прибавлять, что этот план никогда не был приведен в исполнение? Все снова и снова осуществлялся другой, гораздо более легкий и удобный процесс сожжения, — и не только в отдельных городах Франции и Италии, но и на юге и севере, на востоке и западе — словом, во всем священно-римском царстве. Наконец, совершился переворот.
IIIНекто Пфефферкорн, уже чересчур жалкое создание, в царствование императора Максимилиана, стал хлопотать о новом декрете, которым предписывалось бы уничтожение Талмуда, император находился со своим войском пред Павией, когда к нему в лагерь прибыл злоязычный посланный, снабженный дружественными письмами Кунигунды, прекрасной сестры Максимилиана. Максимилиан, усталый и ничего не подозревая, охотно возобновил освященный древностью приказ о конфискации, за которой, естественно, должно было последовать сожжение. Конфискация произведена была с величайшею добросовестностью, так как Пфефферкорн отлично знал, где спрятаны книги прежних его единоверцев. Однако аутодафе совершенно другого рода должно было совершиться. Твердыми и быстрыми шагами приближалась реформация. Рейхлин, первый эллинист и знаток еврейского языка и литературы своего времени, был назначен членом комитета, который должен был поддерживать распоряжение императора своим ученым авторитетом. Однако, эта задача была не по вкусу Рейхлину. «Мне физиономия Пфефферкорна не нравится», сказал он. К тому, он действительно был ученый и честный человек. Этот творец немецкого эллинизма не хотел участвовать в гнусном убийстве книги, «написанной ближайшими родственниками Христа». Может быть он и прозрел хитро расставленные ему сети. Он уже давно был бельмом на глазу у многих своих современников. На его труды в области еврейской литературы уже давно смотрели со страшною завистью, если не со страхом. В то время имели в виду не более не менее — и богословский факультет в Майнце даже открыто требовал этого — как «просмотр и исправление» еврейской Библии, «на сколько она отступает от Vulgata (латинского перевода) — в наивном неведении, что ученый труд Иеронима (Hieronimus) именно более всякого другого изобилует, так называемыми «раввинскими внушениями и толкованиями». Рейхлин, со своей стороны, никогда не упускал случая выставлять великую важность «еврейской правды», как он выражался. Его враги полагали, что должно последовать одно из двух. Если он благоприятно отзовется о Талмуде, то он сильно скомпрометирует себя этим, и тогда уже легко будет с ним справиться. В противном случае, он сам, значит, некоторым образом опровергнет свои прежние суждения, высказанные им в пользу изучения еврейской науки. Но он решительно отказался от этого предложения, прямо объявив, что ничего не смыслит в этой книге. Он вообще не верит, чтобы были многие, которые понимают что-нибудь в этом деле, но меньше всех понимают его клеветники, бывшие некогда евреями. «Он не знает ни одного выкреста во всей германской земле, который понимал бы, или умел бы даже читать Талмуд, за исключением гохмейстера ульмского, который вскоре уехал в Турцию и там снова сделался евреем». Но если бы даже в нем действительно заключались нападки на христианство, продолжает он, то не лучше ли было бы опровергать их? «Ударить кулаком там, где нечего возражать, недостойно ученого — это вакхические аргументы». Страшный крик поднялся против него — этого «жида, жидовствующего, подкупленного ренегата» и т. п. Но это нисколько не подействовало на Рейхлина, который, своим тихим и спокойным манером, принялся за изучение Талмуда, результатом чего была блестящая — для Рейхлина — защита этой книги. На запросы императоора он ответил предложением папы Клементия — учредить талмудические кафедры. При каждом германском университете должны быть определены два профессора с исключительной целью предоставить слушателям возможность познакомиться с этой книгой, этим «гордым оленем со многими рогами». Что же касается сожжения, продолжает он в своей знаменитой записке к императору, то Талмуд вовсе не так создан, «чтобы всякой встречный мог ходить по нему с неумытыми ногами и сказать, что он тоже его знает. Если б теперь пришел неразумный человек и сказал бы: ваше величество, всемогущественнейший император и всемилостивейший государь, прикажите книгу алхимию (argumentum ad hominem!) конфисковать и сжечь за те позорные и гнусные, а также нелепые и опасные вещи, которые находятся в этой книге против нашей христианской веры... то такому буйволу или ослу ваше величество могли бы ответить только одно: ты дурной человек, которого должно осмеивать, а не исполнить его просьбу... Потому что такой маленький ум не может понять и постичь тайну известного искусства, не достоин его и не понимает вещи в их сущности. И неужели же вы бы советовали сжечь эти книги, потому только что невежественный человек их ложно понимает? Я полагаю, что нет»... Все яростнее и яростнее делались крики, и Рейхлин, этот мирный исследователь, из свидетеля превратился в обвиняемого. Что он выстрадал чрез Талмуд и за Талмуд, мы здесь рассказывать не будем. По всей Европе распространился этот спор. Целый поток брошюр, памфлетов, карикатур, появился по этому поводу. Парижской богословский факультет имел по этому случаю не менее 42 заседаний. Кончилось тем, что Рейхлин был осужден самым формальным образом. Однако он оставался уже не один в этой борьбе. Около него, один за другим, сгруппировались герцог Ульрих виртембергский, курфист Фридрих саксонский, Ульрих фон-Гуттен, Франц фон-Сикинген — тот самый, которому кельнцы должны были уплатить издержки за процесс Рейхлина — Эразм Роттердамский и вся та блестящая фаланга, которую в то время называли «рыцарями святого духа», «воинами Паллады Афинской», «талмудофилами» — словом все те, которых мы называем гуманистами. И их палладиумом, их военным лозунгом был — о, неисповедимые пути истории! — был — Талмуд! Защищать Рейхлина, значило для них защищать «закон», бороться за Талмуд — значило бороться за церковь! «Non te» — пишет Эгидий-де-Витербо Рейхлину — «sed legem, non Talmud, sed ecclesiam»! (Не тебя, а закон, не Талмуд, а церковь). Все остальное записано в «Epistolae Obseurorum Virorum» и на первых страницах истории реформации. Талмуд на этот раз сожжен не был. Напротив, напечатано было первое полное его издание. И в том же самом году, в 1520 году от Рождества Христова, в котором это первое издание появилось в Венеции, Мартин Лютер сжег в Виртемберге папскую буллу.
IVЧто такое Талмуд? Снова поднимается пред нами этот вопрос во всем его грозном виде — вопрос, который в настоящую минуту еще напрасно ждет своего окончательного разрешения. И мы здесь по разным причинам находимся более, чем в невыгодном положении. Уже не говоря о трудности — на немногих страницах разъяснить нашим современным западным читателям это вполне восточное, древнее и совершенно своеобразное произведение — мы находим еще затруднение и в том, что не можем отсылать их к самому сочинению. Было бы с нашей стороны неблаговидным притворством предполагать в большей части наших читателей более чем самое поверхностное знакомство с его языком, даже с его названием! В то время как мы охотно распространились бы о таких пунктах, как например сравнение талмудического права с английским, или с современным ему греческим, римским и персидским правом; или с исламом, или, наконец, с его собственным главным первоначальным источником — Моисеевым правом; в то время, как мы охотно доказали бы, что многие из его этических, обрядовых и доктринальных положений приняты зороастризмом, христианством и магометанством что значительную часть его метафизики и философии мы встречаем у Платона, Аристотеля, пифагорийцев, неоплатоников, гностиков — о Спинозах и Шеллингах нашего времени и говорить нечего — а многое из его медицины — у Гиппократа, Галена и в «Paracelsus»[7], составленном лишь нисколько столетий тому назад, нам едва ли возможно будет предложить нашим читателям хоть некоторые disjceta membra этих вещей. Мы едва ли даже в состоянии будем указать на разнообразные отношения того могучего движения, которое, вопреки всяким препятствиям, побуждало лучшие умы целой нации сосредоточивать, в течение целого тысячелетия, все свои силы на созидании, а другое тысячелетие на разъяснении этой одной книги. Таким образом, оставляя в стороне все подробности, собрать которые стоило нам не малых усилий — еще больших усилий, признаться, стоит нам пройти их молчанием — мы ограничимся здесь лишь указанием на развитие Талмуда, на школы, в которых он выработался, на судебные учреждения, которые произносили свои приговоры по талмудическому праву, и на некоторых личностей, наложивших на него свою печать. Мы попытаемся также в кратких чертах изложить все его Jus, коснуться его метафизики и морали, и приведем некоторые его изречения и сентенции, составляющие лучший масштаб для характеристики эпохи. Мы, может быть, принуждены будем ссылаться там и сям на некоторые из упомянутых выше, вне его лежащих предметов. Чтобы понять Талмуд, необходимо — как и всякое другое явление — сопоставить его с предметами подобного ему рода — закон, на который до сих пор по-видимому почти вовсе не обращалось никакого внимания. Но так как он прежде всего образует собою Corpus juris, энциклопедию гражданского и уголовного, церковного и международного, человеческого и божеского права, то его самым лучшим образом можно оценить посредством сравнения и сопоставления его с другими законодательными сборниками, в особенности же с кодексом императора Юстиниана и его комментариями. Падекты и институции, Novellae и Responsa Prudentim, должны быть вопрошаемы и сравниваемы на каждом шагу. Мы должны обратиться так же - в особенности для английских читателей — и к английскому праву, как оно изложено у Блекстона, из которого читатели увидят: «как разнообразнейшие воззрения на право и не право слились наконец с духом нашего времени и приведены в полное с ним согласие». Однако Талмуд — это более чем законодательный сборник, это микрокосм и, как сама Библия, обнимает небо и землю. В нем как будто вся проза и вся поэзия, наука, вера и философия древнего мира, как ни слабо, но все-таки отражаются и собраны в тесных рамках. И так как Талмуд обнимает собою период времени от начала до падения древнего мира и значительную часть той эпохи, в которую чувствовались еще его отражения, то поэтому должно рассматривать сравнительно историю и культуру этого древнего мира на различных ступенях. Но прежде всего нам необходимо, следуя словам Гете, обратиться к родине этой книги, Палестине и Вавилону, к чудесному Востоку, где все блестит в ярких красках, где все превращается в фантастическое образы:
«Willst den Dichter du verstehen, Musst in Dichter’s Lande gehen!»[8]
VНачало Талмуда совпадает с возвращением из вавилонского плена. Эта краткая эпоха изгнания составляет один из самых таинственных и самых важных периодов во всей истории человечества. Под какими влияниями находились тогда изгнанники — мы этого не знаем. Но мы знаем то, что эта дикая, беспорядочная и бессмысленная толпа возвратилась на родину толпою пуритан. Религия Зороастра, которая хотя и оставила свои неизгладимые следы на иудействе (и христианстве), не объясняет, однако, этой перемены. Так же мало в состоянии разъяснить ее и само изгнание. Как ни живо воспоминание о его горечи, как ни искренни выражения тоски по родине, сохранившиеся в песнях и молитвах — но мы знаем что, когда пробил уже час свободы, принуждаемые колонисты весьма неохотно возвращались в землю отцов своих. И тем не менее перемена эта совершилась — и мы видим ее ясно, несомненно — перемена такая радикальная, как ни одна в истории. До того времени едва сознавая существование своей блестящей литературы, народ теперь стал окружать спасенные из огня останки — полуразрушенные памятники его веры и его истории - могучею, страстною любовью, которая была сильные любви к жене и детям. По мере того, как эти памятники постепенно преобразовывались в канон, они сделались неизменным центром его жизни, его действий, его мыслей и мечтаний. С этого времени самые проницательные, равно как и самые поэтические умы этого народа почти беспрерывно обращены были только на эти памятники. «Повертывай ее со всех сторон» — говорить Талмуд относительно Библии — «ибо в ней все находится». «Изучайте Св. Писание»! — гласит аподиктическое изречение Нового Завета. Естественное последствие этой деятельности незамедлило обнаружиться. Постепенно, почти незаметно, эта деятельность, обращенная исключительно на разъяснение и истолкование с целью назидать и поучать относительно известного пункта, породила науку, которая вскоре возросла до громадных размеров. Техническое название этой науки уже обозначено в книгах Паралипоменов. Это название «Мидраш» (от слова «дараш», исследовать, истолковать) — выражение, которое Лютер передал словом: «Historie». Едва ли можно найти более обильный источник недоразумений об этом предмете, чем особенная, необыкновенная подвижность его терминологии. Его технические выражения обозначают все предметы и всякий предмет: они служат, в одно и тоже время, обозначением самого общего и самого специального. Почти все технические выражения на этом поприще, прежде всего, означают просто — изучение. При этом они, однако, употребляются для обозначения совершенно специальной отрасли этого изучения. Потом ими обозначается то особый метод изучения, то произведения, которые возникают из этих общих или специальных исследований. Так слово «мидраш», от абстрактного «толковать» сперва стали применять к самому «толкованию», — как у нас выражения «труд», «исследование», «изучение», обозначают, как самую деятельность, так и результат ее — и, наконец, им стали обозначать одну специальную отрасль толкования — аллегорически-гомилетическую, которая сделалась особенно любимою — и сочинения, на ней преимущественно основанные. Существовало множество способов «исследовать Писание». Наивно-остроумный дух того времени нашел четыре главных метода в персидском слове «рай», обозначенном семитическим безгласным письмом — ПРДС. Каждая из четырех таинственных букв служила мнемоническим знаком для начальной буквы одного термина, которым обозначался один из этих четырех способов. Способ, обозначенный буквою П (пешат) стремился к простому пониманию слов и предметов, согласно первому эксегетическому основному закону Талмуда, что «ни один стих Св. Писания не содержит в себе ничего более его буквального смысла», хотя он для гомилетических и других целей может быть истолковываем бесчисленными другими способами. — Вторая буква Р (ремез) означает намек, т. е. раскрытие намеков, заключающихся в лишних, по-видимому, буквах и знаках Св. Писания. Их применяли к законам, которые не были специально изложены в Писании и сохранялись в традиционной форме, или, на основании права, обнародованы были в позднейшее время. Этот метод, употреблявшийся весьма часто, породил род memoria technica, стенографию, несколько похожую на «Notaricon» римлян. На полях библейских рукописей делали различные знаки и замечания, и таким образом положено было основание Массоре, или дипломатическому сохранению текста. — Третья буква Д (деруш) означала гомилетическое применение исторических и пророческих изречений к современному положению вещей. Это была особого рода проповедь, полудиалектика, полупоэзия, сопровождаемая поговорками, гномами, пословицами, преданиями, — во многом схожая с теми, которые встречаем в Новом Завете. — Четвертая буква С (сод) обозначала тайну. Это была тайная наука, в которую посвящены были только немногие. Слабые отражения этой науки сохранились в неоплатонизме, гностицизме, каббале «Hermes Trismegistus»[9]. Только немногие посвящаемы были в дела «Творения» и « Колесницы» — как называли еще эту «науку», намекая на видения Иезекииля. Да и здесь сила таинственного и неведомого была до того могущественна, что словом «рай» начали обозначать лишь последнюю отрасль, т. е. тайную науку. Впоследствии, в гностицизме, слово это получило значение «духовного Христа». В Талмуде находится мрачная легенда, которая подала повод к самым странным толкованиям, но которая, однако, несколько объясняется вышесказанным. «Четыре человека», — рассказывается в Талмуде, — «вошли в рай. Один взглянул — и умер. Другой взглянул — и сошел с ума. Третий — уничтожил молодые растения. Лишь один из них вошел с миром и вышел с миром». Имена всех этих четырех названы в Талмуде. Все они были великими учителями закона. Предпоследний из них, тот, который уничтожил молодые растения был Элиша-бен-Абуиа, талмудический доктор Фауст, который в академии, сидя у ног своих учителей и изучая закон, скрывал в своей одежде «светские книги» — сочинения Гомера — «и из уст которого никогда не переставали раздаваться греческие песни». Рассказ о том, как он, несмотря на свой прежний скептицизм, быстро, однако, успел отличиться в этом законе, от которого он, наконец, отпал; как он объявляется отступником и отверженным, и самое его имя произносится с неизмеримым отвращением; как он однажды (в день отпущения грехов), проходил мимо храма и изнутри его услышал голос, «подобный голубиному»: «всем людям сегодня прощаются их грехи, кроме Элиши-бен-Абуиа, который познал меня и все-таки изменил мне»; как после его смерти пламя не переставало гореть на его могиле, пока единственный верный его ученик — «свет закона» Меир, бросился на могиллу и свято поклялся, что он не будет участвовать в радостях будущего мира без своего учителя и не отойдет от этого места, пока душа последнего не найдет себе милости и прощения у престола милосердия, — все это, вместе с целым рядом других картин, составляет один из самых трогательных и поэтических образов Талмуда. Последний из вышеозначенных четырех — это Акиба, самый величественный, самый романтический и самый героический характер во всей почти великой галерее ученых его времени; тот самый Акиба, который во время последнего восстания при Траяне и Адриане за свой патриотизм должен был умереть от руки римского палача, и душа которого как прибавляет предание — оставила свое земное покрывало в тот момент, когда он произнес последнее слово известной формулы, признающей единого Бога: «Слушай, Израиль, Бог, Господь наш, Бог единый»...
VIТалмуд — это сокровищница «Мидраша» в самом широком смысле и во всех его отраслях. Что было сказано нами о различных значениях технических выражений, то в особенности относится к слову: «Талмуд». Оно прежде всего означает «изучение» (от слова ламад — учиться); затем особый метод «учения» или аргументация, и таким образом оно, в заключение, сделалось названием великого Corpus juris иудейства. Когда мы говорим о Талмуде как о законодательном сборнике, то надеемся, что это не примут так буквально. Он также похож на то, что мы обыкновенно разумеем под этим словом, как первобытный лес на гарлемский сад. И в самом деле современный исследователь должен прийти в недоумение при первом взгляде на эту роскошную, дикую талмудическую растительность. Привыкший к гармоническим и методическим системам Запада, к системам, приводящим все в стройный порядок, правильно все классифицирующим и указывающим каждому предмету надлежащее место и положение, он здесь чувствует себя как бы оглушенным. Язык, слог, метод, сопоставление предметов — которое кажется иногда столь же логичным, как наши сновидения — баснословно изменчивая сущность этих предметов — все это кажется перепутанным, смешанным, хаотическим. Только после довольно долго времени, исследователь начинает отличать в книге два сильных течения, которые иногда идут между собою параллельно одно другому в своем дальнейшем движении. В одном из них отражается ум, в другом — сердце; одно — проза, другое — поэзия; одно — полное обладание тех умственных способностей, которые обнаруживаются в суждении, исследовании сравнении, развитии, заключении с тысячи на один пункт и с одного на тысячу; другое — проникнуто фантазией, воображением, чувством, юмором и в особенности тою чудною смесью тихой почти грустной мечтательности и сердечных всеобъемлющих симпатий, которая на немецком языке выражается словом «Gemüth» (задушевность). Эти то оба течения «Мидраш», в разнообразных своих формах применил к Библии, и в ней то они действительно нашли вскоре два широких поприща для развития всей своей силы и энергии. Логическая деятельность обратилась к законодательным отделам в книгах Исход, Левит и Второзаконие, и развивала, отыскивала и разрушала в них тысячи действительных и кажущихся трудностей и противоречий с тем, что, в виде преданий, с незапамятных времен живет в устах и сердце народа. Фантазия же завладела пророческою, этическою, историческою, а иногда, что довольно странно, и законодательною частями Библии и превратила все в целый ряд таких тем, которых капризные и причудливые вариации звучать почти музыкально. Логическая деятельность обозначается словом «Галаха» (ход, путь, в Н. 3. оно выражается более обще: правило, норма), от слова галах, ходить — выражение, применяемое как к развитию законодательных положений, так и к самым законодательным положениям; деятельность же фантазии обозначается словом «Гагада» — легенда, сказание, не столько в современном смысле этого слова — хоть многое и относится к этой категории — сколько в смысле нечто только «сказанного», т. е. не имеющего авторитета, игра фантазии, аллегория, причта, сказка, которая содержит в себе нравственную сентенцию и посредством которой разъясняется известный вопрос. Она укрощала бурю во время горячих прений, пробуждала охладевшее внимание и вообще была — выражаясь собственными ее словами - «утешением, благословением». Составленный из этих двух элементов, законодательного и поэтического, Талмуд распадается на Мишну и Гемару — опять два выражения с неточным, неопределенным значением. Первоначально эти оба выражения, как и другие уже упомянутые термины, означали также одно только «изучение»; но впоследствии и ими стали обозначать специальные предметы и специальные сочинения. Мишна, от шана (тана) учить (повторять), издревле передавалось также словом: Второзаконие. Как ни верно, по-видимому, это словопроизводство, однако оно едва ли соответствует первоначальному значению. Слово Мишна означает «изучение», точно также как и слово Гемара, которое, кроме того, означает еще дополнение — т. е. дополнение к Мишне, которая в свою очередь есть дополнение к Моисееву кодексу, и при том такое, которое, развивая и расширяя его, само заменяет его собою. Сама Мишна образует собою род текста, которому Гемара служить не столько толкованием, схолией, сколько критическим дополнением. Пятикнижие, однако, во всех случаях остается основанием и более или менее скрытым источником Мишны; но дело Гемары — разобрать насколько верно и соответственно развитые Мишны в том и в другом случае. Пятикнижие всегда остается Богом данное, неизменное законодательство, писанный закон. В отличие от него, Мишна, вместе с Гемарою, подобно римскому «Lех non skripta», магометанскому «Сунна», или английскому «Common Law», названа законом «устным», «неписаным». Во всей истории юриспруденции мало таких эпизодов, которые были бы настолько же неизвестны, как происхождение и постепенное развитые этого «устного закона». Но не подлежит, решительно, никакому сомнению, что уже с самого начала Моисеева законодательства, существовали дополнительные постановления, разъяснявшие более подробно изложенные в нем общие предписания — о праздновании субботы, о жертвоприноошениях и т. п. Кроме того, само собою разумеется, и определения того первоначального Великого Совета, который функционировал во время странствования в пустыне под названием «старейшины», и его преемников во всяком новом поколении, равно как и решения «судей внутри ворот» (действовавших при Моисее), на которые Пятикнижие прямо указывает, сделались юридическими актами, переходившими по преданию из рода в род. Апокрифические творения, в особенности четвертая книга Эздры — не говоря уже о Филоне и творениях отцов церкви — рассказывают о баснословном количестве книг, переданных Моисею вместе с Пятикнижием: обстоятельство, ясно указывающее на общераспространенную веру в божественное начало второстепенных законов, которые с незапамятных времен жили в народе. Еврейское предание следит за этими учениями чрез длинную цепь авторитетов, которых оно называет по имени до самого «Синая». Оно реальными красками рисует нам, как Моисей те подробные разъяснения своего законодательства, которым его обучали во время таинственного сорокадневного пребывания на горе Синае, передал избранным руководителям народа, так что они у них навеки запечатлелись на скрижалях сердца.
VIIМного времени прошло между моисеевым периодом и Мишной. Все возрастающие потребности этого, вечно изменяющегося общественного быта на каждом шагу требовали новых законов и новых предписаний. Но тут встречалось затруднение, совершенно не знакомое другим законодательствам. В деспотических государствах декретом провозглашается новое постановление. В государствах конституционных предлагается билль. Если высшей государственной власти кажется удобным и целесообразным обнародование этого нового закона, то она делает это в силу своего авторитета. Но в общественном быту евреев, в особенности после первого изгнания, дела обстояли иначе. К числу предметов, безвозвратно погибших вместе с первым храмом, принадлежали «Урим и Тумим» первосвященника. Как для обнародования нового закона, так и для отмены старого, требовалась высшая санкция, чем одно только большинство законодательного собрания. Новый закон, прямо или посредственно, должен был быть выведен из «слова Божия», которое возвестила сама высшая власть; необходимо было доказать, что этот новый закон заключается в букет божественного изречения, в которой он умственно сокрыть с самого творения. И доказать это не всегда было легко, в особенности после того, как установлено было известное количество герменевтических правил, имевших некоторое сходство с теми, которые проняты были в римских школах, как-то: заключения, аналогии идей или предметов, выводы из легкого на трудное, от общего к частному и наоборот и т. д. Кроме этих новых законов, требуемых для новых случаев, было еще много таких древних «традиций», для которых нужно было найти точку опоры, когда они, в качестве исстари установившихся предписаний, явились пред критическим оком талмудических школ. И сами эти школы, в своей неутомимой деятельности, нередко развивали новые законы, согласно с их основными логическими правилами, даже когда эти законы не только не были нужны в тот момент, но вовсе никогда не могли бы быть применяемы в практической жизни; они это делали просто из одного только научного интереса и рассматривали их как предметы абстрактно-юридических исследований. В этом развитии закона замечаются две стороны. Библейский стих составляет при этом или terminus a quo — исходную точку, или же terminus a quem — конечную точку. Или библейской стих образует исходную точку для исследования, которое оканчивается установлением нового закона, или же новое — или никогда прежде не анализированное — постановление, при помощи самого странного из процессов индукции, открывается в каком-нибудь внешнем — иногда самом незначительном — «намек» первобытного источника, Св. Писания. Этот способ развивать, посредством «знаков», новые предписания из старых, может быть, был иногда применяем чересчур свободно. Хотя талмудический кодекс на практике настолько же отличается от Моисеева, насколько недавно предложенный английский «дигест» от законов времен короля Канута, или насколько Юстинианов кодекс отличается от двенадцати таблиц, — тем не менее, нельзя отрицать, что на основные законы Моисеевы, что касается духа их, обращено было тщательное, беспристрастное внимание. Сама буква их служила при этом развитии лишь сосудом или внешним символом. Часто неумолимая строгость Пятикнижия, в особенности, в отношении уголовного права, была, без сомнения, значительно ослаблена под влиянием культуры позднейших времен. Некоторые из его предписаний, которые сделались невозможными на практике, были ограничены или почти упразднены введением особенных формальностей. Некоторые отрасли его приняли совсем другое направление, чем можно было ожидать с первого раза. Во всяком случае, несомненно то, что свободой, представленной «судьям того времени», пользовались, вообще, в высшей степени осторожно и добросовестно. Вся эта деятельность развития законов находилась в руках «книжников»[10], которые, говоря словами Нового Завета, «сидят на троне Моисея». Прежде чем мы будем говорить о фарисеях, которые часто сопоставляются со словом «книжники», мы должны провести разграничения между различными значениями, которые придавали этому слову в различные периоды. Устная компиляция талмудического кодекса имеет три фазиса, и название каждого из них соответствует особому классу ученых. Задача первого класса этих ученых, которые преимущественно назывались «книжниками» и которые жили в период времени от возвращения из вавилонского плена до греко-сирийских преследований (220 л. до Р. X.), состояла прежде всего в том чтобы следить за сохранением текста Св. Писания, в том виде, в каком он сохранился после стольких несчастий. Они считали не только число законов, но даже число слов, букв и знаков Св. Писания; и, таким образом, оно было охраняемо ими от будущих поддельных вставок и извращений. Они, кроме того, должны были толковать законы по соответственным им традициям, которых они были сберегателями. На них лежала обязанность просвещать народ, проповедывать в синагогах и преподавать в школах. Они, кроме того, устраивали известные «преграды», т. е. они собственной властью обнародовали новые постановления, которые считали необходимыми для лучшего охранения старых законов. Вся деятельность этих мужей («мужей большой синагоги»), выражается в их девизе: «Будьте осторожны в своих судебных приговорах, приготовляйте много учеников и ограждайте законы». Еще выразительнее девиз последнего их представителя, почти единственного, — кроме Эздры и Нехемии, которым предание приписывает основание этой корпорации — имя которого дошло до нас, именно Симона Праведного: «На трех основах держится свет: на законе, богопочитании и милосердии». После «книжников» (софрим) следуют «учителя» или «репетиторы» (танаим), называемые также банаим, «мастера, строители», приблизительно от 220 до Р. X. — 220 по Р. X. К этому периоду относится революция Маккавеев, рождество Иисуса Христа, разрушение храма Титом, восстание Бар-Кохбы при Адриане, вторичное и окончательное разрушение Иерусалима и совершенное изгнание народа. В этот период времени над Палестиной господствовали одни за другими: персы, египтяне, сирийцы и римляне. Однако ничто надолго не могло прервать изучение законов; как ни страшны были события, занятия в школах шли своим чередом. Пусть учителя один за другим умирали мученической смертью; пусть академии были разрушаемы до основания; пусть, наконец, смерть предстояла всем тем, которые, практически или теоретически, предавались изучению законов; — к живой цепи, в которой передавались законы, все прибавлялось одно звено за другим. Умирающие учителя в последним издыхании назначали себе преемников и посвящали их. Вместо одной, разрушенной до основания палестинской академии, возникли три новых в Вавилоне, и закон все развивался и развивался, несмотря на направленные против него удары и тысячи совершенных из-за него убийств. Главными представителями и руководителями этих богословско-юридических занятий были президенты (Наси, князь) и вице-президенты (Аб-Бет-Дин, отец-глава-судилища) высшего судебного учреждения Синедриона, или, в арамейской форме, «Сангедрина». Существовало в то время три таких синедриона один «великий синедрион» и два «меньших». Когда Новый Завет говорит о «священниках», «старейшинах и законоучителях» вместе, то он подразумевает великий синедрион. Инстанция эта образовала собой высшее духовное и государственное судилище. Оно состояло из 71 члена, выбираемых из среды старших священников, родоначальников и отцов семейств, «законоучителей» и правоведов. Сделаться членом этого верховного совета что-нибудь да значило. Соискатель должен был отличаться, как нравственно, так и физически. Он не должен был быть ни очень стар, ни очень молод. Но прежде всего, он должен был быть опытным в знании «закона». Многие из читателей Библии, читая про «закон», «учитель» и «законоучитель» едва ли вполне понимают настоящее значение слова «закон», в том смысле, в каком оно употребляется в Ветхом и, в особенности, в Новом Завете. Как мы уже сказали выше, слово: закон — обозначает все отрасли знания и всякое знание в отдельности, так как для полного понимания его необходимо было обладать всем и всяким знанием. Законы Моисеевы содержат постановления о пространстве, которое можно пройти в субботу: должно было, следовательно, вычислять и измерять это пространство, а для этого необходима была математика. Более или менее подробное изучение животных и растений также было необходимо, так как закон касается и их; и вот вызвано было к жизни естествознание. Затем были параграфы чисто гигиенические, для точного установления которых необходимо было знание всей тогдашней медицины. «Времена года» и «праздники» вычислялись по фазам луны, вследствие чего необходимо было знать и астрономию, по крайней мере начальные ее основания. И по мере того, как евреи - правда, сначала против всякого желания — приходили в столкновение с Римом и Грецией, и история, география и языки этих народов стали входить в состав предметов преподавания, в который уже прежде вошли история, география и языки Персии и Вавилонии. Строгие Эссеи, которые восставали против отмены некоторых временных, «вызванных опасностью декретов», были именно горстью людей, хотя и благонамеренных, но весьма ограниченных. Когда во время сирийских волнений, эллинский скептицизм, своим соблазнительным видом, начал отыскивать жертвы в самом «святом винограднике» и угрожал разрушить всякую любовь к отечеству и всякое стремление к независимости, тогда произнесено было проклятие над эллинизмом — точно так же, как германские патриоты, в начале нынешнего столетия, ненавидели даже самые звуки французского языка, или так как еще недавно в Англии с какой-то подозрительностью смотрели на все «чужое». Но лишь только опасность миновала — и греческой язык и культура тотчас же вступили снова в свои права, как в школах, так и в домах. И в самом деле особенное внимание было обращено на единство еврейского и греческого, единство «Талита»[11] и «Палии»[12]. «Сима и Тафета, которых Ной вместе благословил и которые в своем согласии останутся и вечно, будут благословенны». Полиглотический характер того времени менее всего свидетельствует о той «упорной замкнутости», которая сделалась стереотипной фразой по отношению к евреям. Народный язык иудеев состоял из странной смеси греческого, латинского, арамейского, сирийского и еврейского языков. Член синедриона, поэтому, должен был быть и хорошим лингвистом. Он не должен был нуждаться в переводчике. От него требовалось не только знание науки в обширном смысле, но и известного знакомства с фантастическими знаниями, как астрология, магия, и т. п., чтобы в качестве законодателя он был бы в состоянии приноравливаться к воззрениям народа на эти весьма распространенные «свободные искусства». Новообращенные, евнухи и вольноотпущенные ни под каким видом не допускались в члены этого собрания; точно так же и те, которые не могли явно доказать свое законное происхождение от священников левитов или евреев. Не могли также быть членами синедриона игроки, любящие пари, ростовщики и торгующие запрещенными производствами. Кроме известного возраста, который должен был иметь сенатор для того, чтобы он не был слишком стар, «дабы его рассудок не был ослаблен», и не очень молод «чтобы его суждения не были незрелы и слишком поспешны», и ясных доказательств его обширных теоретических и практических познаний, так как он мало помалу возвышался от обыкновенного судьи в своей родине до звания сенатора — существовало еще психолически тонкое правило, чтобы он был женат и имел детей. Пред судьей излагалось глубокое семейное горе, а потому от него требовалось, чтобы он понимал это горе и сочувствовал ему. О практическом судопроизводстве синедриона мы еще будем говорить впоследствии, когда коснемся самого Corpus juris. Теперь же мы должны немного остановиться на тех «школах и академиях», о которых мы уже не раз упоминали и венец которых, так сказать, образовал синедрион.
VIIIЗа восемьдесят лет до Р. X. школы процветали во всех концах Палестины — введено было обязательно обучение. Между тем, как до изгнания не встречается ни одного выражения для слова «школа», в это время, напротив того, целый десяток слов для этого выражения вошел во всеобщее употребление[13]. Важное значение, которое придавалось публичному обучению в жизни народа, яснее всего явствует из народных поговорок, каковы: «Иерусалим был разрушен, потому что пренебрегали обучением юношества»; «мир поддерживается лишь дыханием школьных детей»; «нельзя мешать учению в школах, даже когда дело идет о восстановлении храма»; «ученый выше пророка»; «уважай своего наставника более нежели родного отца; последний произвел тебя в сей мир, первый же указывает тебе путь в мир грядущий»; «благо сыну, который учился у отца своего, он вдвое будет почитать его: как отца, и как наставника; и благо отцу, который может сам обучать своего сына». «Высшие школы» или «каллы» собирались только на несколько месяцев в году. Три недели до начала курса декан приготовлял учеников к слушанию лекций, которые имел читать ректор, и обязанность эта, с увеличением числа слушателей, сделалась постепенно столь трудной, что необходимо было иногда назначать семь деканов. Способ преподавания не был такой, какой существует в наших университетах: профессора не читали лекций, которые слушатели «могли уносить с собою ясно написанные на бумаге», как студент в гетевском «Фаусте». Здесь все было жизнь, движение, прения; на вопросы отвечали вопросами; ответы давались в притчах или сравнениях; задавшего вопрос заставляли самого разъяснить этот пункт посредством аналогии — метод, весьма похожий на метод Сократа. В Новом Завете мы находим множество примеров этого метода преподавания. Самым высшим почетом в народе пользовались не «священники», о действительном положении которых еще до сих пор существуют весьма странные понятия, не «высшие сословия», а именно эти учителя закона, «мудрецы» и «ученики мудрецов». Есть что-то почти немецкое в этом глубоком почитании, которое питали к представителям науки и учености, как бы бедны и незначительны они ни были по своему происхождению и положению. Многие из лучших и известнейших ученых были только простыми ремесленниками. Они были строителями шалашей, башмачниками, будочниками, поварами. Один — сверженный за высокомерие — президент должен был передать свой сан кандидату, которого застал в мастерской почерневшим от дыма. Праздность и аскетизм презирались более всего. Благочестие и ученость тогда только пользовались настоящим уважением, когда соединены были с полезным физическим трудом. «К научным занятиям хорошо присоединить ремесло, тогда ты будешь свободен от греха». «Занимающийся своим делом не должен встать даже пред самым великим ученым». «Кто своим трудом зарабатывает хлеб свой, стоит выше того, кто боится Бога» — вот обыденные изречения того времени. Почетное положение, которое занимал труд, препятствовало с одной стороны слишком рабскому поклонению учености, а с другой стороны удерживало массу народа от всяких аскетических крайностей. А между тем в этом отношении постоянно угрожали опасности. Когда храм был разрушен, в народе многие стали воздерживаться от употребления мяса и вина. Один мудрец осыпал их за то упреками, на которые они возразили: «Когда-то жертвы наши пылали на алтаре Господа, теперь алтарь разрушен; когда-то возливали вино на жертвы, теперь и этого нет». — «Но вы ведь едите хлеб, а ведь и от хлеба уделялись дары?» — «Правда, ответили они, мы поэтому, вперед будем питаться только одними плодами». — «Но ведь первые плоды тоже приносились в жертву?» — «Мы будем питаться одними поздними плодами». — «Вы пьете воду и забываете, что и вода служила при жертвоприношениях?» — Тут они замолчали и не нашлись, что ответить. Мудрец же напомнил им, что тот, кто разрушил Иерусалим, возвещает и его восстановление; что настоящий траур заключается вовсе не в том, чтобы делать свое тело неспособным к труду; пусть лучше какой-нибудь знак у дома и у стола, даже в самые торжественные минуты, напоминает повсюду и во всякое время об утерянном святилище. И так оно и осталось. Другой весьма характеристический рассказ есть сказание о том мудреце, который среди ярмарки встретил пророка Илию и спросил его, кто из этой толпы удостоится будущего блаженства? Пророк прежде всего указал на беспутного с виду человека — смотрителя тюрьмы, «потому что он хорошо обращается со своими заключенниками»; а потом на двух простых ремесленников, которые весело болтали и прохаживались в толпе. Мудрец бросился к ним и стал расспрашивать их об их образе жизни и об их благочестивых деяниях. Они, сконфуженные, ответили: «Мы простые, бедные работники и живем трудом своим. Все, что мы можем сказать о себе — это разве то, что мы всегда веселого нрава и со всеми обращаемся дружелюбно. Когда встречаем человека в грустном настроении, то присоединяемся к нему, болтаем с ним и стараемся развлекать его, пока он, наконец, не забывает своего горя. А когда мы узнаем, что двое поссорились, то не отстаем от них, пока они снова не сделаются приятелями. Вот в чем заключается вся наша жизнь»...
IXПрежде, чем покончим с этим периодом развития Мишны, мы должны коснуться еще одного или двух пунктов. Мы разумеем здесь время, в которое возникло христианство. Необходимо сказать здесь несколько слов об отношениях христианства к Талмуду — предмет, о котором много толковали в последнее время. Если бы ходячие воззрения на различие между иудейством и христианством не были так запутаны, тогда вовсе не приходили бы в такое страшное изумление от разительного сходства между догмой и параболой, между аллегорией и поговоркой в Евангелии и Талмуде. Новый Завет, который, выражаясь словами благочестивого Лейтфута, составлен «среди евреев, евреями и для евреев», не может и говорить иначе, как языком того времени, как относительно формы, так — вообще — и относительно содержания. Есть еще гораздо более существенные точки соприкосновения между Новым Заветом и Талмудом, чем думали до сих пор богословы; ибо выражения: «искупление», «освящение», «милость», «вера», «благо», «возрождение», «сын человеческий», «сын Божий», «царствие небесное», из которых некоторые встречаются уже в Ветхом Завете, не впервые явились с христианством, как можно бы судить по их значению, а встречаются на каждом шагу в талмудических творениях. Не менее громки и сильны протесты Талмуда против «служения одними устами», против тех, которые хотели бы сделать «закон бременем для народа», против «законов, висящих на одном волоске», против «священников и фарисеев». Основные таинства христианства как новой веры суть предметы совершенно особенные, которых мы здесь, как совершенно не относящихся к нашей задаче, вовсе и не коснемся. Но нравственное учение в Талмуде и христианстве, в общих его чертах, совершенно тождественно. Знаменитое изречете: «Делай другим то, чего ты желаешь, чтобы тебе другие делали», против которого так решительно восставал Кант с философской точки зрения, приводится президентом синедриона Гиллелем — при смерти которого Иисусу Христу было всего только десять лет — не как что-нибудь новое, а как древнее и давно известное изречение, «которое заключает в себе весь закон». Величайшей ошибкой всегда было, во-первых, то, что отдельные личности или классы постоянно смешивали со всем народом, и во-вторых, что иудейство времен Христа отождествляли с иудейством времен Моисея, судей, или даже времен Авраама, Исаака и Иакова. Иудейство времен Иисуса Христа, (к которому именно, вследствие влияния Талмуда, весьма подходить иудейство современное), также похоже на иудейство, изображенное в Пятикнижии, как современная Англия на Англию времен Вильгельма Руфуса, или как Греция времен Платона на Грецию времен Аргонавтов. За христианством остается та великая заслуга, что оно чудесные, драгоценные начала, взлелеянные в школах и «мирном обществе» ученых, перенесло, так сказать, на рынок всего человечества. То «царствие небесное», о котором говорит постоянно Талмуд от первой до последней страницы, христианство сообщило всей пастве, даже прокаженным. Не наше дело здесь рассматривать плоды, которые это принесло всему миру. Но нельзя достаточно часто и энергично протестовать против того колоссального заблуждения, будто Бог любви вдруг последовал за Богом мести. «Люби ближнего, как самого себя» — это предписание Ветхого Завета, как это сам Христос учил своих учеников. «Закон», как мы уже видели и как мы еще увидим впоследствии, был развиваем до самых крайних — может быть даже весьма тягостных — мелочей, но все это только относительно внешних деяний и поступков. Но «вера сердца» — догмат, на который особенно налегал апостол Павел — была нечто такое, что фарисеи ставили гораздо выше этого закона. Есть что-то такое, говорили они, что нельзя предписать никаким законом и что, однако, выше всех законов. «Все, — гласит одно их изречение, — в руках Божиих, кроме только самого богопочитания». — «Шестьсот тринадцать велений, — говорится в Талмуде, — переданы были Моисею для народа. Царь Давид все эти веления соединил в одиннадцать, в пятнадцатом псалме: «Господь, кто может пребывать в Твоем шалаше, жить на священной горе Твоей? — тот, кто честно поступает» и т. д. «Пророк Исаия соединяет их в шесть (гл. XXXIII, 15): «Кто живет честно», и т. д. «Пророк Миха выражает их тремя (VI, 8): «Чего требует от тебя Господ, кроме: держаться права, творить любовь и благочестиво поступать пред Богом твоим?» «Исаия в другом месте (LVI, 1) свел их уже только к двум: «Охраняйте право и творите справедливость!» «Амос (V, 4) выразил их в одном велении: «Ищите Меня и живите». «Из этого можно было бы заключить, что Бога можно найти лишь в исполнении всего его закона, поэтому Хавакук прибавляет: «Благочестивый живет в своей вере». Что же касается самих «фарисеев» или «сепаратистов», то нет более грубого или укоренившегося заблуждения, будто они были только «сектой», ненавидимой Христом и апостолами. Они вовсе не составляли собою «секты», точно также как не составляют собою «секты» католики в Риме или протестанты в Англии. Они также вовсе не так были ненавидимы Христом и апостолами, как это может казаться при первом взгляде на некоторые, более общие места Нового Завета. Ибо «фарисеи» в то время — вопреки уверению Иосифа Флавия — имели значение народа, в отличие от «кислого теста Ирода». О тех «высших классах» вольнодумных саддукеев, которые придавали весьма важное значение жертвоприношениям и десятинам, достававшимся им же, и которые в то же время подвергали большему или меньшему сомнению бессмертие души, Новый Завет почти что не упоминает. Нам в самом деле кажется, что эти нисколько неопределенные и неясные обвинения против «книжников и фарисеев» были совершенно ложно поняты. Не может подлежат никакому сомнению, что между настоящими фарисеями были именно самые патриотические, самые благородные и самые передовые руководители прогрессивной партии. Самое развитие закона было в их руках лишь средством охранять в полной силе дух закона, в противоположность букве, внешней форме, предоставлять времени его права и изменять временные постановления согласно своим потребностям и своим воззрениям. Что в этом стаде было много паршивых овец, торговавших высоким именем всей корпорации — на это неоднократно жалуется вся тогдашняя литература. Талмуд, в гораздо более сильных и едких выражениях, чем Новый Завет, порицает ту, так называемую, «язву фарисейства», тех «крашенных», «которые совершают такие преступления, как Зимри, и требуют вознаграждения, как Пинхас: тех, «которые хотя хорошо проповедуют, но уже никак не хорошо поступают». Остроумно парадируя их логическую чинность, их аффектированные щепетильные разделения и подразделения, Талмуд делит и фарисеев на семь классов, из которых один только достоин этого имени. Эти классы суть: 1) те, которые исполняют волю Божью из-за земных побуждений; 2) те, которые выступают маленькими шажками и постоянно приговаривают «Подожди меня немного; мне нужно совершить еще одно доброе дело»; 3) те, которые ударяют головой об стену, лишь бы не посмотреть на женщину; 4) благочестивые по профессии; 5) те, которые заклинают своих знакомых указать им еще несколько обязанностей, которые они могли бы исполнить; 6) те, которые благочестивы потому, что боятся Бога. Настоящий же и истый фарисей тот, «кто исполняет волю Отца небесного, потому что он любит Его». Между этими, — большею частью — «фарисейскими», учителями периода Мишны, имена которых, вместе с отрывочными описаниями их жизни, дошли и до нас, находятся превосходнейшие люди, у ног которых сидели первые христиане, изречения которых, сделавшиеся ходячими в устах народа, ясно показывают, что они были одарены необыкновенной мудростью, благочестием, добротою и высоким и благородным мужеством — мужеством и благочестием, которое они слишком часто имели случай запечатлеть своею жизнью.
XОт этого беглого очерка духовной атмосферы эпохи, в которую постепенно создавалась Мишна, обратимся теперь к самой книге. Масса разных предписаний, постановлений. повелений, приказаний и запрещений, древних и новых, перешедших но традиции, произведенных из других правил или изданных для известного времени, по истечении восьми столетий, возросла до таких колоссальных размеров, что с ними, в их разбросанном и притом — не следует забывать — неписаном виде почти невозможно было справиться. Три раза, в разные времена, сделаны были тремя первоклассными учеными попытки систематизировать их и привести в порядок, и только третьему удалось сделать это. Первая попытка сделана была Гиллелем I, в президентство которого родился Иисус Христос. Этот Гиллель, называемый также вторым Эздрой, происходил из Вавилона. Жажда знаний погнала его в Иерусалим. Он был до того беден, — рассказывает предание, — что когда у него раз не хватило ничтожной суммы, которую нужно было заплатить за вход сторожу академии, он в сильно морозную ночь влез на оконный карниз, чтобы прислушиваться к чтению. Как он там лежал и внимательно слушал, члены его окоченели от холода и снег покрыл его. Только когда в комнате сделалось темно, диспутанты заметили неподвижную фигуру за окном. Его снова призвали в жизнь. Мимоходом заметим, что это случилось именно в субботу, а по Талмуду опасность уничтожает святость субботы. Даже для самого малого грудного ребенка уничтожается святость субботы, «ибо этот ребенок — прибавляет Талмуд — вместо этой одной, ради его нарушенной субботы, будет соблюдать множество других». Здесь мы не можем не протестовать против того вульгарного — специально-английского — воззрения, будто «еврейская суббота» — ничто иное, как строгий день покаяния. Она именно — совершенно противное — «день радости и удовольствия», «праздничный день», в который одевают лучшую одежду, едят лучшую пищу и наслаждаются вином, освещением, благовониями и другими телесными благами. Высшее выражение чувства самостоятельности и независимости заключается в талмудическом изречении: «Живи в субботу также, как в будни. И избегай лучше зависимости от других». Но все это собственно сюда не относится. 30 лет до Р. X. Гиллель сделался президентом. Талмудические свидетельства полны рассказами о его кротости, его благочестии и его доброте. Его изречения рисуют его яснее, чем всякий биографический очерк: «Будь учеником Аарона, другом мира. восстановителем его, другом всех людей и приводи их к закону». — «Не веруй в себя раньше дня твоей смерти». — «Не суди о своем ближнем, прежде чем ты сам был в его положении». — «Кто не увеличивает своих познаний, тот уменьшает их». — «Кто делает науку средством для наживы, тот погибает». Тотчас после лекций он спешил домой. Однажды ученики спросили его о причине этой поспешности. Он должен радеть о своем госте, ответил Гиллель. Когда они настоятельно стали требовать, чтобы он наконец назвал имя своего гостя, он ответил, что подразумевает лишь свою душу, «которая сегодня здесь, а завтра там». Однажды язычник обратился к Шамаю, главе соперничавшей с гиллельской академией, и иронически просил, чтобы он научил его всему закону в то время, когда он будет стоять на одной ноге. Рассерженный учитель прогнал его. После этого он обратился к Гиллелю, который принял его очень любезно и дал ему тот знаменитый, с тех пор везде известный ответ: «Чего не хочешь, чтобы тебе сделали, не делай того другому» — в этом заключается весь закон; все остальное только комментарий на него». — Весьма характеристичен также ответ, данный им одному из тех «остряков», которые надоедали ему своими глупыми вопросами. «Сколько родов законов бывает?» — спросил он у Гиллеля. «Два, — ответил последний, — один писанный, а другой устный». На это остряк заметил: «Я верую только в первый и не понимаю, почему я должен воровать в последний». — «Садись, — сказал Гиллель, и написав еврейской алфавит, спросил его, указывая на первую букву алфавита: «Какая это буква?» «Это — алеф». — «Хорошо, а следующая?» — «Бет». — «Так. Но почему ты знаешь, что это алеф, а это бет?» — «Это передали нам наши предки?» — «Ну, — сказал Гиллель, — если ты принимаешь на веру одно, то должен принимать и другое». Его уму, по-видимому, впервые представилась во всем значении необходимость привести в порядок и ясность всю эту огромную массу устных преданий. В то время было не менее шестисот таких устных преданий, разбросанных в разных неопределенных отделах. Гиллель попытался соединить всю эту массу в шесть частей; но он вскоре умер, и начатое им дело оставлено было на целое столетие. Акиба, бедный пастух, любовь которого к дочери богатейшего и самого гордого Иерусалимского гражданина сделала его из грубого человека одним из замечательнейших ученых своего времени «вторым Моисеем», взялся потом за это дело. Но и ему оно не удалось. Его юридические занятия были прерваны римским палачом. Но день его мученической смерти был, говорят, днем рождения того, который окончил, наконец, эту громадную работу — днем рождения Иегуды Святого, известного преимущественно под названием «рабби». Около 200 г. по Р. X. была окончена редакция всего свода законов (хотя все еще в неписаном виде), после страшных усилий, не одной только школы, но всех, не при помощи одного только способа, а при посредстве всевозможнейших способов собирания, сравнения и сокращения. Когда свод законов был написан, он уже во многих частях устарел. Еще задолго до разрушения храма, Рим отнял «у Синедриона право творить уголовный суд. Поэтому, множество узаконений о богослужении в храме, жертвоприношениях и т. д. имели только идеальное значение. Аграрные законы могли быть применяемы большею частью лишь в одной Палестине, и только незначительная часть Народа осталась верною оскверненной земле. Тем не менее, весь кодекс охотно был принят многими палестинскими и вавилонскими академиями как текст, но не как сборник старых и устаревших законов, а как сборник таких законов, которые, в то или другое время, с восстановлением еврейской общественности, снова будут иметь полную силу.
XIМишна состоит из шести отделов. Эти отделы разделены один на 11, другой на 12, третий на 7, четвертый на 3 (или 10), пятый на 11 и шестой на 12 глав, которые в свою очередь разделены на 524 параграфа. Вот краткое содержание их: Отдел I. О посевах или аграрном законе. Отдел этот начинается главою о молитве. В нем заключаются законы о десятинах и дарениях, приходящихся священникам. левитам и бедным, далее закон о седьмом или субботнем годе, о запрещенных смесях растений, животных и материй. Отдел II. О временах. Сюда входят постановления, касающаяся субботних, праздничных и постных дней, о работах, запрещенных в эти дни, об обрядах и жертвоприношениях. Особенные главы посвящены празднику пасхи, новому году, дню умилостивления (это одна из наиболее выдающихся частей), празднику кущей и празднику Амана. Отдел III. О женщинах. В нем содержатся законы о помолвке, браке, разводе и т. д., также и об обетах. 0тдел IV. О вознаграждении за убытки. Он обнимает значительную часть гражданского и уголовного права. Здесь мы находим постановления о находках, купле и продаже и обыкновенных торговых сношениях. Далее говорится о самом тяжком из известных закону преступлений, об идолопоклонстве. Затем идут главы о свидетелях, о присяге, о наказаниях по закону и о самом Синедрионе. Этот отдел заключается, так называемыми, «изречениями отцов», о которых по истине можно сказать, что они принадлежат к самым высоким этическим изречениям в области всей религиозной философии. Отдел V. О священных предметах: о жертвоприношениях, о перворожденных, а также о мерах, употреблявшихся в храме. Отдел VI. Об очищениях. Он заключает в себе различные гигиенические законы, законы о левитах, о нечистых вещах, нечистых лицах и т. д. Не подлежит никакому сомнению, что в Мишне гораздо больше симметрии и систематичности, чем в пандектах, хотя мы и не находим в ней той логической последовательности в расположении частей, о которой говорят Маймонид и другие. Впрочем, Мишна, по нашему мнение, едва ли сохранилась в ее первоначальном виде. В отдельных статьях Мишна тоже свободна от ошибок римского свода законов. В ней мы находим гораздо меньше противоречащих друг другу законов, повторений и вставок, чем в дигестах, которые, несмотря на все старания Трибониана, изобилуют, так называемыми, «Geminationes»[14], «Leges fugitivae»[15] и т. д. Наконец, что касается некоторой свободы в рассуждениях, относящихся к половым отношениям, язык Мишны, по мнению всех авторитетов, гораздо чище, чем, например, язык средневековых казуистов. Предписания, заключающиеся в этих шести отделах, весьма разнообразны. Рядом с самыми важными законами, мы находим самые малозначащие, рядом с законами вечными — законы, изданные только для известного времени. Законы эти суть или подробнее разъясненные библейские предписания, или независимые постановления, связанные со Св. Писанием только герменевтическим путем. Эти «постановления», «ограждения», «предписания» и «узаконения», или короче «галаха, данная Моисею на Синае» — почти тоже, что римские законы, известные под именем «Senatus consulta», «Plebiscita», «Edicta», «Responsa Prudentium», и т. д. Исключая спорных вопросов, Мишна не говорит, где и при каких обстоятельствах издан тот или другой закон. Только как исключение, мы читаем вводные предложения в роде: «NN был свидетелем», «я слышал от NN» и т. д., потому что все вошедшее в кодекс основано на достоверных традициях. Мишна не знает никакой разницы между более или менее важным постановлением, между старой и новой галахой. Каждое постановление, принятое большинством или обнародованное им на основании традиции, становилось религиозным, освященным Богом законом, хотя позднейшие авторитеты могли снова подвергнуть его обсуждению и устранить. И действительно, то обстоятельство, что законы в своих подробностях не могли оставаться неизменными, было одним из важнейших возражений против написания свода даже после окончания редакции его. Что в практике всегда охотнее ссылались на Мишну, чем на закон «Моисея» — это весьма понятно и просто. Ведь и в английских судах не ссылаются же постоянно на agna Charta. Одинаковая важность, присущая всему разнообразному содержанию Мишны, яснее всего видна из слов самого редактора, служащих эпиграфом для всего сборника: «Будь одинаково тщателен при исполнении более или менее важных законов, потому что ты не знаешь какая за них следует награда. Взвешивай всегда потерю, которую ты понесешь на земле при исполнении какого-либо закона, с наградою, которая за исполнение предстоит тебе в будущем, и земное благо, которое ты получишь, не исполняя какого-либо закона, с наказанием, которое тебя ожидает за то в будущем». — «Помни всегда три вещи, и ты никогда не войдешь в грехи: «Знай, что над тобою — глаз, который все видит, ухо, которое все слышит, и что все твои дела заносятся в книгу».
XIIТон и направление Мишны, за исключением отдела, посвященного преимущественно этике, везде практический. Она не занимается метафизикою, а стремится единственно к тому, чтобы быть источником права. Но в то же время, она не упускает ни одного случая, где можно указать на высшие нравственные мотивы, стояние выше строгой буквы закона. При исполнении закона она более обращает внимание на «намерение», на «animus», чем на самое исполнение. Человек, который, основываясь на букве закона, делает что-нибудь противное духу гуманизма, «неприятен Богу и людям». Кто, с другой стороны, по собственному побуждению удовлетворяется таким требованиям, исполнять которые закон заставить не может, кто, выражаясь слогом Мишны, не останавливается «у ворот (на рубеже) справедливости», а проникает во внутрь «линии милости», им наслаждается «дух мудрых». Исполнение известных обязанностей приносит «плоды» (проценты) в этой жизни, но настоящая награда, «капитал», возвращается только в будущей. Обязанности эти суть: почитание отца и матери, благотворение, раннее усердное занятие наукой, гостеприимство, оказывать последний долг мертвому, водворять мир. В Мишне ничего не упоминается об «аде». За каждое преступление существует определенное законом наказание, или таинственное внезапное «наказание Божье» — библейское «истребление». Смерть очищает человека от всех грехов. Незначительные проступки могут быть искуплены раскаянием, благотворительностью, жертвоприношением и молитвою в день умилостивления. Несправедливость, оказанная человеку, может быть искуплена только тогда, когда обиженный будет удовлетворен и простит обидчику. Величайшая добродетель заключается в изучении закона. Это не только признак высокого образования (как это было прежде в Англии), но и особенная заслуга, которая в состоянии помочь человеку в настоящей и будущей жизни. Незаконнорожденный, изучивший закон, стоит выше первосвященника, не знающего его. Разобрать эти законы, анализировать дух их в целом и частностях - этого мы здесь сделать не в состоянии. Но мы можем сказать, что общее мнение друга и недруга искони было таково, что характеры их во всех отношениях гуманный, несмотря на некоторые строгие и жестокие исключительные постановления, вызванные бедствиями, опасностью, революцией или реакцией, которые, впрочем, не только никогда не применялись, но и не могли быть применяемы на практике. Относительно исполнения этих законов господствовали воззрения, вовсе не далекие от современного либерализма и выражающиеся во множестве изречений, каковы например: «В Писании сказано: чтобы он жил ими, «чтобы он жил, следовательно, а не чтобы он умер». Они (законы) не должны сделаться западней или бременем, отравляющим жизнь человека. Кто исполняет все законы в совокупности, тот считается, ни более ни менее, как «святым». Другое изречение гласит: «Закон дан людям, а не ангелам». — По отношению к практическому судопроизводству, Мишна делает резкое различие между гражданским правом и уголовным. И то, и другое, требуют самого тщательного и добросовестного расследования, но между тем как для гражданского процесса достаточно трех судей, для уголовного требуется не менее двадцати трех. Обязанность судьи при рассмотрении гражданского процесса — как бы ясны сами по себе ни были обстоятельства дела — состоит, прежде всего, в старании примирить тяжущихся. «Когда», спрашивает Талмуд, «справедливость связана с довольством сторон? Когда, отвечает Талмуд, враждующие стороны приводятся к мирному соглашению». Рядом с обыкновенными постоянными судьями, спорящие стороны сами от себя иногда выбирали «мировых судей». Плата тем, которые творят суд, делает решение недействительным. Потеря времени вознаграждается только в том случае, когда судьи сами занимаются каким-нибудь ремеслом. Если будет доказано, что истец требовал больше, чем ему следует, с целью легче получить ту часть, которая ему действительно следует, то ему отказывают в иске. Три участника в одном деле не могут явиться в суде — один истцом, а другие два — свидетелями. Судья должен смотреть за тем, чтобы не было отличия в одежде истца и ответчика, т. е. чтобы один не был одет великолепно, а другой в лохмотьях. Судью особенно предостерегают от пристрастия в пользу бедного против богатого. Судья не должен слушать ничего о деле, которое он будет разбирать, до тех пор, пока пред ним не будут стоять обе спорящие стороны. Существуют многочисленные и весьма замечательные напоминания судьям. «Тот, который несправедливым образом передает собственность одного в руки другого, будет отвечать за это перед Богом собственной душой». — «В тот момент, когда судья судит свооих ближних, он должен думать, что над ним как бы висит меч, готовый пронзить его в сердце». — «Горе судье, который, будучи убежден в несправедливости дела, старается показаниями свидетелей оправдать свои решения в своих собственных глазах. От него Бог строго будет требоват отчета». — «Пока тяжущиеся перед тобой, смотри на обоих как на виновных, но как только ты отпустил их, смотри на них как на невинных, так как приговор уже над ними произнесен». Трудно найти, в законодательстве начиная с древнейших времен, и вплоть до настоящего времени, уголовное право, проникнутое таким глубоким гуманизмом, такою почти нежной кротостью. В то время, как при гражданских процессах, как для осуждения, так и для оправдания, при более значительном трибунале, достаточно было большинства одного голоса; при уголовных процессах, для оправдания достаточно было большинства одного голоса, для осуждения же требовалось большинства двух голосов. В то время как в гражданском процессе всякий может быть свидетелем как против истца, так и против ответчика исключая однако игроков (играющих в кости) и бьющихся об заклад, «держащих голубей для пари», ростовщиков, берущих незаконные проценты, торгующих недозволенными произведениями (седьмого года) и невольников (все они неспособны, ни творить суд, ни быть свидетелями) — к защите обвиняемого в уголовном преступлении допускаются все без исключения. Свидетелей допрашивали очень строго. Формулы, служившие для увещевания свидетелей при уголовных преступлениях и относившиеся отчасти и к самим судьям, были так торжественны и выразительны, что ложное показание, влекущее за собою смерть человека, сделалось событием почти неслыханным. «Как, поступать, — спрашивает Мишна, — когда дело идет о жизни и смерти, для того, чтобы вселить в свидетелей должное благоговение? Когда они являются в залу суда, к ним обращаются со следующими словами: «Может быть, вы говорите по догадке или со слов другого, который уверял вас, что он слышал от «надежного человека»; или вы, может быть, не знаете, что мы подвергнем вас самому строгому испытанию? Знайте, что приговор над жизнью и смертью — не то, что приговор о моем и твоем. Если человек ложно свидетельствовал, и таким образом дал кому-нибудь возможность присвоить себе чужую собственность, то он может еще искупить свою вину раскаянием и вознаграждением за понесенный убыток. Но когда дело идет о жизни, на совести лжесвидетеля лежит не только кровь того, кто несправедливо был осужден, но и кровь его потомков до скончания веков; ибо в Писании по поводу убийства Авеля Каином, говорится: «Голос крови твоего брата взывает ко мне из земли». Слово кровь употреблено там во множественном числе (деме), чтобы этим показать, что уничтожив одну жизнь, человек навлекает на себя такую ответственность, как бы он разрушил целый мир... Но вы, услышав это, может быть, скажете: «Что нам до всех этих несчастий?» Вспомните же слова Св. Писания, которые гласят (Левит V, 1): «Если свидетель видел или слышал что-нибудь и не показывает, то на него падает ответственность». Или вы, может быть, скажете: с какой стати мы будем причиною смерти этого человека? Вспомните же другое место Св. Писания, где говорится (Притчи XI, 10): «В гибели злодеев — победа!»
ХIIIЗаконы возмездия — Lex Talionis — неизвестны Талмуду. Воздать «меру за меру» — это, по Талмуду, только в руках Божьих. Телесные повреждения могут быть вознаграждены деньгами; и здесь фарисеи снова одержали верх над садукеями, которые требовали буквального применения известного библейского стиха (око за око, зуб за зуб и т. д.). Самые тяжкие, установленные Моисеем, наказания, именно «телесное наказание и смертная казнь», были применяемы с гуманностью, неизвестною, не только современным им древним судилищам, но даже и нынешним европейским, до самого последнего поколения. Самое большое число ударов, которым можно было подвергнуть преступника, было тридцать девять. Девизом: «Люби ближнего как самого себя», постоянно руководствуется уголовный кодекс, даже относительно самых тяжких преступников. И поэтому, если жизнь наказуемого могла подвергнуться малейшей опасности, число ударов тотчас же ограничивалось. Сколько проступков ни совершил бы обвиняемый, он за все мог быть подвергнут только одному наказанию. Никогда обвиненный даже не мог, в одно и то же время, быть приговариваем к денежному штрафу и ударам. Осторожность, которую обнаруживали там, где речь шла о человеческой жизни, действительно доходила до крайности. Судьи, которым предстояло произнести смертный приговор, должны были целый день пред тем воздерживаться от пищи и питья. Приговор не приводился в исполнение в тот самый день, когда он был произнесен; на следующий день его еще раз подвергали подробному обсуждению в Синедрионе. Ожидали до последней минуты, не найдется ли благоприятного для осужденного обстоятельства, которое могло бы смягчить приговор. Место казни находилось на довольно большом расстоянии от суда, чтобы свидетели и осужденный, вспомнив какое-нибудь смягчающее вину обстоятельство, успели остановить исполнение приговора, даже в то время, когда осужденного вели уже на казнь. У дверей суда стоял человек с значком; в некотором расстоянии находился верховой, чтобы можно было тотчас остановить казнь, на случай, если вдруг откроется какое-нибудь благоприятное для осужденного обстоятельство. Осужденному позволено было четыре или пять раз остановить шествие и просить опять повести его в суд, если он вдруг вспомнил обстоятельство, которое может применить для своей защиты. Впереди шествия выступал герольд, который провозглашал; «N N, сына N N, ведут для совершения над ним смертного приговора, потому что он совершил такое-то и такое-то преступление. Такие-то и такие-то в этом деле свидетели против него. Кто знает что-нибудь в его пользу, пусть придет и объявит». На расстоянии трех саженей от места казни шествие останавливалось и к осужденному обращались со следующими словами: «Покайся в своих грехах! Кто сознается и раскаивается, тот будет участвовать в будущей жизни, ибо так говорится об Ахане, которому Иисус Навин сказал: «Сын мой, окажи честь Предвечному, Богу Израиля». — Если же осужденный не мог сделать полное признание, то ему достаточно было сказать: «Да будет смерть моя искуплением за все мои грехи». — До последнего момента осужденного сопровождали самым глубоким и трогательным участием. Иерусалимские женщины основали благочестивое общество, на которое возложено было приготовление напитка из мирры и уксуса действовавшего подобно опиуму и усыплявшего чувства осужденного, когда его вели на казнь. Существовало четыре рода смертной казни: побиение камнями, сожжение, обезглавливание и удушение. Распятие еврейскому закону совершенно неизвестно. «Дом», в котором совершалось побиение камнями, был о двух этажах. Под словами: «побиение камнями» — в Мишне подразумевается не что иное, как низвержение преступника с возвышенности. Главный свидетель собственною рукою должен был столкнут обвиненного. Если он пал грудью вниз, то его перевертывали на спину; если он тотчас после падения не умер, как это имелось в виду постановлением об этого рода казни, то второй свидетель должен был бросить ему камень на сердце, если он и после этого оставался жив, тогда, и только тогда, уже весь народ ускорял его смерть каменьями. — Сожжение и удушение было почти одно и тоже; в обоих случаях обвиненного ставили в мягкую глину до верхней части туловища, и два человека затягивали на его шее веревку, завернутую в мягкую материю, что сейчас вызывало удушение. При «сожжении» осужденному, кроме того, втыкали в рот светильню, когда он открывал его при последнем дыхании. Труп предавался земле в особенном, для погребения преступников, назначенном месте. Но чрез некоторое время его останки собирались и переносились в могилы его родственников. Эти последние посещали тогда судей и свидетелей, «чтобы этим как бы молча высказать: мы не питаем к вам неприязни, ибо вы произнесли справедливый приговор». Обыкновенные, внешние, траурные обряды в этом случае не соблюдались; впрочем оплакивать казненного не было запрещено, «ибо горе исходит из сердца». Имущество преступника не конфисковалось. Смертная казнь de facto была уже уничтожена задолго до того, как римское правительство лишило Cинедриoн права суда по уголовным преступлешям. И здесь также заметно смягчающее влияние «традиций», противодействовавшее неумолимой строгости Моисеева кодекса. Допрос свидетелей производился с такой строгостью, что смертный приговор был почти невозможен. Даже когда вина подсудимого, несмотря на все требуемые тонкости и на все затруднения, была ясно доказана, даже и тогда отыскивалось нарушение какой-либо формальности — и смертный приговор был заменяем пожизненным заключением. Ученые позднейшего времени, в особенности Акиба, которому революционные мечты о новом восстановлении независимости ни мало не мешали постоянно иметь ввиду реформу всего судоустройства, нисколько не задумался публично высказаться в пользу отмены смертной казни. Суд, который, в течение семи, или даже семидесяти лет, произнес хоть один смертный приговор, называли «трибуналом убийц».
XIVВот что мы находим в Мишне, в этом сжатом итоге почти восмисотлетнего развития законодательства. Иегуда, «редактор» ее, исключил все те традиции, которые не принадлежали к несомненно достоверным, равно как и всякие толкования и экзегетику, пощадив только самое необходимое. Огромная масса этих материалов собрана была потом в форме апокрифического (устного) кодекса. Согласно с этим, мы имеем, так называемую, внешнюю Мишну (борайта), составленную нисколько поколений позже официальной Мишны; сверх того, мы имеем еще разъяснения и прибавления, относящиеся также к Мишне, и называемые Тосефта (дополнение); и, наконец, экзегетику и методологию Галахи (Сифри, Сифра, Мехильта), из которых многое вошло потом в состав Талмуда. Желающих ближе познакомиться с этим предметом, мы отсылаем к прекрасным исследованиям Франкеля. После того, как Мишна преобразилась в кодекс, она со своей стороны, как прежде Св. Писание, сделалась основанием для дальнейшего развития и анализа. Нужно было привести ее в связь с Библией; она породила новые мысли и спекулятивные заключения, затмившие нередко текст и значение самой Мишны, появились новые традиции, новые методы проложили себе путь, и наступило господство казуистики, словом, произошло то же самое, что в тогдашних юридических школах в Риме, Александрии и Берите, — и таким образом образовалась Гемара. Двойная Гемара: одна была названа «иерусалимской» и, служила выражением мнений палестинских школ; она редижирована в 390 г. после Р. Х. в Тиберии и изложена на наречии, названом «восточно-арамейским». Другая, названная «вавилонской», составлена в Сире, в Вавилонии, под редакцией раби Аши (365—427 по Р. X.) Но окончанием этого кодекса, собирание и просмотр которого продолжались семьдесят лет, мы обязаны школе «Сабораим», существовавшей в конце V-го века после Р. X. Вавилонская Гемара служила выражением академий Сиры, Негардеи, Пумбедиты, Махузы и др., и была плодом развития, продолжавшегося непрерывно шесть или семь поколений. Этот «вавилонской» Талмуд написан на «западно-арамейском» наречии. Ни один из этих двух кодексов не был написан сейчас по составлении, и ни один из них не сохранился во всей своей целости. Существовала ли когда-либо двойная Гемара ко всем шести или, по крайней мере, к первым пяти отделам Мишны (так как шестой отдел рано вышел из употребления) — это весьма сомнительно. Впрочем, многое утеряно и из того, что было. «Вавилонский» Талмуд почти в четыре раза больше «иерусалимского». Его 36 отделов, снабженные замечательнейшими комментариями (Раши и Тосафот), составляют, в наших настоящих изданиях, 12 фолиантов, имеющих вместе 2,947 листов in folio, которые, во всех почти изданиях, одинаково разверстаны. Талмуд же сам по себе, без внешних прибавлений и дополнений, всего только в 10 или 11 раз больше Мишны, которая была редактирована за десять или одиннадцать поколений до составления Талмуда. Каким образом Талмуд, для позднейшего времени, мало помалу сделался тем, чем была Мишна для Гемары и Св. Писание для древнейших ученых, т. е. текстом; каким образом «Амораим» (ораторы), «Сабораим» и «Гаоны» — эти эпигоны «ученых» (софрим) — в продолжении целых столетий, сосредоточивали на нем свою деятельность; какие бесконечные объяснения, трактаты, толкования, ответы, извлечения и т. п. были результатом этой деятельности — об этом мы здесь распространяться не можем. Мы должны однако заметить, что Талмуд, как Талмуд, никогда не был признан нацией, ни посредством общего, ни посредством специального собора. Законодательные решения его, как основанные на самых высших авторитетах, составляли, правда, основу религиозных законов, норму для всех будущих решений, так как Талмуд действительно составляет собою наиболее достоверный канон всех еврейских традиций. Но во время преследований, которым евреи подвергались в Персии, при Иесдегреде II, Фируце и Кобаде, школы, в продолжении восьмидесяти лет, были закрыты. Живое развитие закона, таким образом, было насильно приостановлено, и Талмуд, поэтому, достиг такого значения, о котором составители его, по всей вероятности, никогда и не мечтали. Следует ли прибавить, что молча признаваемый за ним авторитет принадлежит исключительно законодательной его части? Другая часть его — «Гагада», или сказочная часть, — была лишь «поэзией», любимой женщинами, детьми и теми тихими и мечтательными умами, которые наслаждаются пением диких птиц и красотою и благоуханием цветов. Сами «авторитеты», в виду филистерской, «a pied de la lettre» следящей критики, в виду враждебного и умышленного непонимания, часто протестовали против Гагады и отказывались от нее. Но народ, беззаботный и веселый, сильно привязался к ней, и с течением времени ей, и только ей, присвоил всеобъемлющее название — «Мидраш».
XVНам следует теперь сказать еще нисколько слов об языке, на котором написаны все рассматриваемые нами сочинения, что еще больше уяснит нам образ жизни и мыслей тогдашнего времени. Мишна написана таким чистым еврейским языком, какого лишь можно было требовать от тогдашнего времени. Народ сам говорил тогда, как мы уже упомянули выше, на испорченном, перемешанном с греческим и латинским, халдейском или арамейском языке. Многие молитвы того времени, таргумы (переводы) и Гемара написаны на этом наречии. Даже язык Мишны не вполне свободен от этих, повсюду проникших чуждых элементов. Многие юридические выражения, названия продуктов, языческих праздников, домашней утвари, яств, напитков, плодов и одежды, заимствованы из классических языков. Хлеб, который семиты, в древние финикийские времена, «бросали через воды», спустя долгое время опять им был возвращен. Если древние греки заимствовали у семитов названия мер, весов, пряностей, растений, трав; если семиты доставляли им «сапфир», «яхонт», «смарагд», тонкие материи для платья и самое платье — (так известное citwn — название, которым в Библии обозначаеется одежда Иосифа) — если музыкальные инструменты, посуда, писчие материалы и — что весьма важно — «алфавит» заимствованы ими у семитов, то греческий и латинский языки заплатили им за это — к величайшему сожалению позднейших схоластов и лексикографов — с лихвою. Арамейский язык, как уже замечено, был языком простого народа. Это было само по себе весьма картинное наречие, которое можно было приспособить, не только к эпиграмматической сжатости Гемары, но даже и для глубоко поэтического созерцания ежедневных явлений, для лозунга караульных, для пароля храмовой стражи, для ежедневных формул левитов и их помощников. К сожалению, язык этот нередко был уже чересчур поэтичен. Вещи, чисто метафизические, которые, с течением времени, превратились в догматы, принимали, благодаря смелой поэтической фразеологии этого языка, весьма причудливый формы. И, благодаря еще особенным обстоятельствам того времени, арамейский язык в устах народа вскоре превратился в оригинальнейшую смесь. Несмотря на тонкое чутье, которым отличались составители Талмуд, относительно отличительного характера каждого из языков, бывших в то время в употреблении («для элегии удобнее всего употреблять арамейский язык, для гимна — греческой, для молитвы — еврейский, для военной поэзии — римский», говорится в Талмуде), все эти языки перемешаны между собою, подобно тому как пенсильванцы, в настоящее время., перемешивают языки немецкий, английский и голландский. Наконец, этот язык был лишь верным отражением лиц, придавших этому идиому значение постоянного языка. Эти «учители закона» составляли самое пестрое собрание в мире. Между ними были, не только граждане всех концов обширной римской империи, но также и обитатели Аравии и Индии — факт, который объясняет многие странные явления в Талмуде. Трудно найти предмет, служащий для домашнего обихода, или для какой-нибудь общественной цели, который, кроме своего местного, не имел бы еще греческого или латинского названия, или того и другого вместе; но названия эти нередко имеют такую странную и устаревшую форму, что исследователи, как семитических, так и классических древностей, бывают принуждены пройти целые курсы археологии, прежде чем .разгадают то или другое странное, и в то же время, совершенно обыденное слово[16]. Только одна область осталась чистой, и в ней не заметно этого смешения языков. Это именно — область земледелия. Предметы, относящиеся к земледелию и некоторым другим промыслам, сохранили древние, простые семитические названия - не потому, как заключили бы по незнанию, что народ не был склонен к этому занятию, а напротив, потому что, со времени Иисуса Навина, народ не переставал дорожить желанием — сидеть под своим виноградником и смоковницей. Для примера укажем на идиллическую картину, нарисованную в Мишне и изображающую торжественную процессию, ежегодно, по случаю собирания первых плодов, отправлявшуюся в Иерусалим, при звуках флейт: впереди вол, назначенный для жертвы; рога его были позолочены, а голова украшена оливковым венком. Едва ли какое-нибудь сочинение классического или после классического периода, представляет такую полную картину космополитизма и роскоши последних дней Рима, как Талмуд. Здесь мы находим яблоки из Крита, рыбу (Kulis?) из Испании, стручковые плоды из Египта, чеснок из Баалбека, тыквы из Греции, вифинский сыр, мидйское пиво и итальянское вино. Точно также и материи для платьев привозились из Пелузии и Индии, рубашки из Киликии, вуали из Аравии и т. д. Достаточно одного указания, чтобы видеть, что в Гемаре можно найти много, до сих пор едва замеченных, аравийских, индийских и персидских материалов. Мы осмеливаемся утверждать, что если археология и языкознание когда либо серьезно займутся обработкою этого поля, то они не скоро его оставят...
XVIМы долго думали о том, как объяснить читателям то, что Гагада, этот второй талмудический поток, о котором мы говорили во введении, иногда внезапно прерывает Галаху, и, наконец, вспомнили о выходке одного древнего учителя. Был жаркий летний день, рассказывается в Талмуде, и когда учитель после обеда начал разбирать запутанный юридически вопрос, слушатели его, один за другим, заснули. Чтобы разбудить их, он вдруг громким голосом закричал: «В Египте однажды жила-была женщина, которая разом произвела на свет шесть сот тысяч человек». Читатели могут себе представить удивление пробудившихся слушателей. «Ее имя, — продолжал спокойно учитель, — было Иохебед, она была матерью Моисея, который один стоил этих шести сот тысяч вооруженных людей, вышедших из Египта». И после этого небольшого отступления в область легенд, профессор продолжал свои юридические рассуждения, а слушатели его уже не засыпали после обеда. Восточный ум устроен совершенно своеобразно. Его почти страстная привязанность к мудрому и остроумному, к глубоко серьезному и задушевному, к историям и сказкам, к параболам и нравоучениям, не оставляет его даже при самых серьезных занятиях. Они как будто необходимы для того, чтобы направить его мысль. — Это игрушки для взрослых детей востока. Гагада также имеет свою собственную экзегетику, свою систему и метод. Это — странно-фантастические предметы. Но мы не желали бы точно проследить здесь научное деление ее на гомилетическую, этическую, историческую, всеобщую и специальную Гагаду. Гагада вообще, как уже упомянуто, превращает Писание в тысячи тем для ее чудесных и капризных вариаций. Все — начало и конец — предполагается содержащимся в Библии, и потому в ней должны находиться ответы на всякие вопросы. Нужно только найти ключ, и всякая загадка будет разрешена. Библейская лица, короли и патриархи, герои и пророки, женщины и дети, их действия и чувства, их радость и горе, их мысли и все их бытие, — все это, не нарушая исторической достоверности, в форме аллегории, представлено в Гагаде. О чем умалчивает библейской рассказ, то Гагада дополняет самым разнообразным образом. Она пополняет эти пробелы точно какой-нибудь пророк, прорицающий о прошедшем. Она объясняет мотивы, расширяет рассказ, находит связь между самыми отдаленными странами и народами, нередко с самым неоспоримым реализмом, и извлекает, сообразно своим исключительным целям, возвышенные поучения из самых незначительных слов и вещей. Все это делается при посредстве быстрых и внезапных, нам совершенно чуждых, движений — и отсюда частое непонимание ее фантастических образов. Поистине замечательно движение этой пророчицы изгнания, которая появляется, где и когда ей вздумается, и потом, вдруг, опять исчезает. Можно себе представить страдание и смущение средневекового богослова, или даже современного ученого, который, посреди тонких научных прений, за которыми он следит в Талмуде — по предмету, касающемуся геометрии, ботаники, финансов, медицины, астрономии и имеющему в виду субботнюю дорогу, семена, десятины, приданое или развод, новолуние, присягу и т. п. — внезапно почувствует, что почва начинает колебаться под его ногами. Громкие голоса, которые он только что слышал, постепенно утихают, двери и стены академии исчезают пред его собственными глазами и, вместо них, вдруг поднимается какой-нибудь Рим, Urbis et Orbis, со своей шумной разнообразной жизнью. Или пред ним восстают цветущие виноградники другого холмистого города, сам «золотой Иерусалим» виден вдали и между деревьями гуляют, одетые в белом, мечтательные девы. То громче, то тише звучат их песни, голос их то возвышается, то понижается, как рифмы, их пляски — это многознаменательный и глубоко серьезный день умилостивления, который, для высоко поэтического контраста, «саронские розы» избрали праздником и днем ликования и назначили для гуляния в полях, покрытых лилиями, под тенью нависших лозами виноградных деревьев. — Или горячие прения вдруг прерываются пронзительными звуками труб, призывающими к восстанию, и Бельшацарь, которого ужасное празднество описывается при этом с новыми, еще большими и неслыханными ужасами, исполняет тут должность Нерона кровавого; или Навуходонасар, тиран вавилонский, со всеми его полчищами — при совершенно постороннем, по-видимому, юридическом вопросе — предается страшному проклятию, в то время, как посвященные видят в этом Навуходонасаре Тита — эту разрушенную уже, наконец, радость человечества. Если когда-нибудь символы и иероглифы Гагады окончательно будут исследованы и разрешены, то они доставят поистине замечательное дополнение к неписаной истории человечества. Часто, слишком уже часто для интереса науки и славы человечества, прения эти прерываются наступлением римских отрядов, революционными лозунгами, шумом сражения — и рассуждающие учителя и ученики бросааются к оружию и с криком: «Иерусалим и свобода!» примыкают к толпе. Те, которые неблагоприятно посмотрят на все. по-видимому, не относящиеся к
делу предметы, какие заключает в себе гагадистическая чисть Талмуда — на эти
волшебные сказки и басни, легенды и параболы, на всю эту массу странных вещей,
которые кристаллизируются около
важных законодательных вопросов — тех мы просим припомнить факт, что вся эта
перепутанная масса, в лучшем случае, представляет собой лишь ряд разрозненных,
искаженных и побледневших светописных картин, хоть останки эти и весьма резко
похожи на оригиналы. В том виде, в каком слушатель удержал в своей памяти, или в своих летучих заметках, содержание прений, перемешанных тысячами разных намеков, воспоминаний, apercus, фактов и цитат, в таком же точно виде он их и передавал, иногда хорошо, иногда дурно. В первом случае нами как будто овладевает чувство, что мы, после долгого тихого мечтания, снова пытаемся преследовать обратный ход наших идей — и самые причудливые предметы, по-видимому без всякого отношения друг к другу, то появляются пред нами, то исчезают. Между тем в них все таки кроется глубокое значение, и даже если хотите, логическая последовательность. То медленно шагая вперед, то быстро возносясь в выси, то услаждая слух наш давно забытой мелодией, то скрипучим, резким голосом напоминая нам о былом, они увлекают нас за собою. И талмудические отступления отличаются именно тем, что они не теряются в беспредельном. И вдруг, когда мы этого всего меньше ожидаем, первоначальный вопрос снова восстает перед нами и на этот раз, уже сопровождается решением. Он, так сказать, выделяется из этого множества странных образов, цель которых не всегда была понятна. — В другом случае страница Талмуда кажется нам прерванным сном. Было ли бы лучше, если бы рукою редактора руководила мудрая discretion? Не думаем. Самая пустая датская игрушка, открытая в каком-нибудь ассирийском засоренном уголку, может иметь громадное значение для того, кто умеет обращаться с подобными вещами и кто, на основании их, в состоянии вывести множество весьма важных и непредвиденных заключений.
XVIIМы посвятим окончание нашего этюда этой Гагаде и, чтоб охарактеризовать ее общими чертами, воспользуемся для этого местом из произведений известного английского поэта, благочестивого Буньяна, который, говоря о своей книге («Путешествие к святым местам»), тоже в некотором роде весьма гагадистического характера — в то же время, в старосветском духе, сам того не зная, обрисовывает Гагаду:
«Хочешь избавиться ты от скуки? Ищешь ли веселья, но без глупой пустоты? Хочешь с загадкой иметь и разгадку? Иль в мечту глубоко ты погрузиться желаешь? Любишь ли ты пищу питательную? Иль, может быть, Тебе приятно видеть людей, говорящих с облаков. Иль хочешь плакать ты и смеяться вместе? Иль видеть сон желаешь, но не наяву и не во сне? — Иль заблудиться хочешь, но без вреда и страха Снова возвратиться помимо всякого волшебства? При чтении самого себя узнать ли хочешь, Но не знать того, что ты сам читаешь? Но, читая, видеть, ибо ясно будет картина. Благополучен ты или же злополучен? — Тогда приди ж ко мне! — Довольно уже вопросов. — И сложи все, и голову и сердце и книгу...»
Мы вовсе не намерены упрекать тех, которые, проникнутые самыми лучшими намерениями, распустили дурную славу о всей области Гагады. Мы, право, вовсе не удивляемся, что, так называемым, раввинским рассказам, которые по временам предлагались английской публике, не всегда был оказан благосклонный и лестный прием. Талмуд, который для всякого случая имеет едкое словцо, говорит: «Они погрузились в океан и достали оттуда — черепок». Во первых, эти рассказы составляют лишь незначительную часть парабол, аллегорий и пр., содержащихся в Гагаде. Во вторых, они отчасти были дурно выбраны, отчасти дурно переданы; отчасти же они вовсе не были взяты из Талмуда, а из какой-нибудь новейшей книги еврейских рассказов. Гердер — этот вполне компетентный знаток, этот «творец поэзии народов» — возносит до небес то, что он видел из настоящей Гагады. И, действительно, не только весь мир благочестивых библейских легенд, которые рассказываются и поются магометанскими народами уже целые двенадцать столетий и услаждают слух, как мудрецов, так и женщин и детей; не только весь этот мир, иногда в зачатках, иногда уже в полном развитии, находится в Гагаде, но многое из того, что к вам перешло из средневековых сказок и преданий, из Данте, Бокаччио, Сервантеса, Мильтона, сознательно или бессознательно, вытекло из этого же чудного царства. Что очень многое в нем, даже по восточным понятиям, слишком трансцендентально, этого мы не отрицаем. Но не следует забывать, что и в Гомере и Шекспире также встречаются слабые места, и что, к сожалению, никогда нет недостатка в людях, которые, с каким-то особенно счастливым инстинктом, всегда, и даже с особенной любовью, попадают на самый слабые места сочинения — между тем как, с другой стороны, самые лучшие места Шекспира и Гомера могут быть искажены дурным обращением с ними. Однако, мы далеки от мысли предложить составление полного перевода этих гагадических произведений. Нет ничего скучнее непрерывного чтения подобного рода произведений, между тем, как избранные места удовлетворят самого строгого критика. А такие места, в том виде, как они рассеяны в Талмуде, в высшей степени интересны и освежительны. К сожалению, мы не в состоянии здесь в подробности передать ее меткие и выразительные толкования, ее блестящие фантастические образы, ее, как говорит о ней Гейне:
«... Мир прелестнейших преданий, Сказок ангельских, легенд, Песен, мудрых притч, рассказов О погибнувших за веру, И гипербол... Мир забавный, Но скрепленный, но горящий Чистой мерой... О, как брызжет, Как сверкает эта вера...»
Нам кажется более важным обратить внимание читателя на другую область, на область талмудической метафизики и этики, в том виде, как они изложены в Гагаде. Мы намерены здесь бросить на нее лишь беглый взгляд, отсылая любопытных к известным весьма достойным исследованиям на этом поприще. Начиная с творения, мы видим, что Талмуд вполне признает постепенное развитие космоса. Он признает постепенное разрушение созданного. Талмудические учителя в этом отношении с тонким тактом ссылаются на место Св. Писания: «И Господь видел все, что он сделал, и нашел, что весьма хорошо», и на другое: «Бог создал все в свое время», и из этого они выводят заключение: «Он создавал миры за мирами и разрушал их один за другим, пока Он, наконец, создал этот мир, тогда Он сказал: «Этот мир мне нравится, а другие нет». «В свое время — означает, говорят они, что только теперь было время создать этот мир». Потому и говорится просто: «И был вечер» — как прежде. Перемены и порядок времен дня оставались неизменными при всяком создании, из которых, наконец, постепенно образовалась наша вселенная. Относительно «первоматерии», мы замечаем в Талмуде некоторое сходство в воззрениях с материалистическими греческими школами древнейших периодов. «Один или три предмета существовали до нынешнего мира: вода, огонь и ветер: вода создала тьму, огонь создал свет, а ветер — дух мудрости», как по Санхуниафону, финикийская космогония признает воздух и хаос первопринципами, из которых, соединенные любовным влечением, произошли «первоначальный ил» — земной шар — и «стражи неба» — небесныый свод с его светилами. В рассуждения о том, как сотворен был мир — талмудическая философия не вдавалась. Талмуд решительно отрицает участие в творении архангелов, существование которых подтверждается Св. Писанием, но полная иерархия которых установилась лишь под персидским влиянием. В рассуждениях о дне, в который созданы были ангелы, все согласны в том, что они созданы были к концу недели, «дабы никто не мог думать, что Михаил прикрепил свод небесный на юге, а Гавриил на севере». Гностический Демиург («Эон») — это древнее связующее звено между божественным духом и миром материи — имеет свой прототип и в Талмуде. Что первые платонические школы подразумевали под «логос» т. е. «план мироздания», или «божественный ум», а позднейшие под «сущностью божества» или, — аллегорически — «сын создателя», что Сирах называл «мудростью», Филон — «божественным духом» или «архангелом», а Таргум «словом» (св. Иоанна I., 1), что гностики называли не иначе как «силой», то мы находим в Талмуде под именем Метатрон. Это весьма темное слово подало повод к разным толкованиям. Мы полагаем, однако, что это не римский метатор (нечто в роде «герольда, идущего впереди войска, чтобы приготовить ему надлежащую позицию»), или греческий метатронос (ангел трона), а что это персидской митра, функции которого совершенно сходны с функциями талмудического Метатрона. Ангелы, имена которых, по словам самого Талмуда, принесены были возвратившимися из Вавилона изгнанниками, после изгнания играли совсем другую роль, чем до него. Они, в самом деле, более или менее персидского происхождения, точно также, как и все заклинания, волшебные лечения, чудодейственные средства, и все вообще заключающиеся в Талмуде «аморитические», т. е. иноверные, «языческие» элементы. Даже число архангелов сходно с числом Amesha-Çpenta, именно семь, и их еврейские имена и функции почти совершенно соответствуют их персидским первообразам, которые со своей стороны, только в последнее время, были объяснены, как аллегорические обозначения для божественных атрибутов Бога. Однако, как ни резко выступали талмудические авторитеты против этих «языческих обычаев», против симпатетического лечения, против изгнания демонов и всякого другого суеверия, которое тогда сильно было в ходу, они все таки вынуждены были сами делать некоторые уступки относительно ангелов и демонов. Кроме семи главных архангелов, есть еще целые массы ангелов подчиненных — персидские яцаты — которых двоякое призвание состоит в том, чтобы быть служителями Бога и защитниками людей. В качестве служителей Бога, они дыханием последнего ежедневно созидаются из моря света, волны которого изливаются под троном Господним. В качестве ангелов-хранителей — персидские фраваши — они по два сопроввождают каждого человека (римляне имели не двух добрых, а одного доброго и одного злого гения), и за каждое новое доброе дело человек приобретает себе нового ангела-хранителя, который уже вечно охраняет каждый его шаг. Когда праведный умирает, его встречают три полчища ангелов. Первое говорит (словами Св. Писания): «Пусть придет с миром»; второе продолжает: «Кто жил праведно», а третье заключает: «Пусть войдет с миром и отдыхает в своей могиле». Когда неправедный оставляет свет, то его встречают три полчища злых ангелов. Весьма характеристично, впрочем, как Талмуд это учение о добрых и злых духах, заимствованное народом из персидского, вполне зороастрского дуализма и развитое, впоследствии, под влиянием греческого и римского пантеизма, стремится подчинить служению строжайшего монотеизма. Ангелы делаются у него просто представителями идей, чувств и божественных идеалов. Демоны, со своей стороны, суть невидимые разрушители, находящиеся более внутри человека чем вне его. Сатана (Саммаэль — «первозмея»), правда, занимает такое же место, какое занимает «злой дух» в персидской мифологии. Он является искусителем, обвинителем и ангелом смерти; однако Талмуд абсолютно называет его «страстью», которая раздражает, вызывает угрызение совести и убивает — и таким образом миф разрешен философически. Сатана, поэтому, принимает всевозможные виды, но он не является в Талмуде «противником» Бога. По талмудическим воззрениям, это было бы осквернением божества. Такое же положение, впрочем, существует и относительно всех тех демонических образов, за которое не перестают упрекать Талмуд — и которые все взяты из Зендавесты. Мы подразумеваем здесь Лилит, Асмодея (Эшма), Ливиафана, петуха, вола и т. п., которые, раз проникнув в сознание народа, были применяемы учителями с тонким тактом. Они или объясняются ими в их первоначально аллегорическом смысле, или же им придаются такие преувеличенные формы, что их аллегорическое значение невольно бросается в глаза. Или они, подобно знаменитым, заимствованным из индейских источников, морским сказкам Талмуда, употребляются как политические и религиозные сатиры. Нередко они представляют собой лишь материал для народных и детских сказок. И на все это целое тысячелетие смотрели как на «религию» и потом осуждали! — Однако это мы замечаем лишь мимоходом.
XVIIIВерховное руководство вселенной, по воззрениям Талмуда, находится исключительно лишь в руке Божией. Как Он единственный создатель и верховный судья точно также Он один лишь определяет судьбы Мира. «Каждый народ», говорит Талмуд, «имеет своего ангела-хранителя, своего гороскопа, свою планету и свою звезду. Один только Израиль не имеет звезды. Израиль поднимает свои взоры лишь к Нему одному. Нет посредника между теми, которые называются Его детьми, и их Отцом на небесах». Эта картина, изображающая Израиль дитятей, вообще очень любима и встречается в разных вариациях. К самым прекрасным вариациям принадлежит гагадистический ответ на вопрос — почему все те различные места, где евреи останавливались и отдыхали во время своего странствования по пустыне, обозначены в Библии с такою точностью и обстоятельностью? Почему эти немногие священные страницы наполнялись подобными темными названиями? Представьте себе, — гласит гомилетический ответ на этот вопрос наивной народной критики, — представьте себе отца, который со своим единственным сыном предпринимает путешествие по морям, степям и другим опасным местам. И вот отец, когда возвращается, рассказывает, как на той станции у него сильно заболело дитя, как он в другом месте отстоял его от дикого зверя, подвергая опасности свою собственную жизнь, как оно здесь чуть не умерло от жажды, а там ему впервые показались родные вершины и душа его потряслась от радости, и припоминает всякую, даже самую незначительную, местность и записывает ее на память своему дитяти. — Что касается посредничества, то Талмуд иерусалимский, писанный под влиянием римских обычаев и нравов, содержит в себе следующую параболу: «Кто-то имел благодетеля, «патрона». Когда с ним случалось какое-нибудь несчастье, то он не отправлялся прямо к своему патрону, а оставался у двери его дома. Он не спрашивал прямо своего защитника, а обращался всегда к любимому рабу или сыну его, и те уже докладывали патрону, что такой-то и такой-то стоит у дверей, может ли он войти или нет? — Не так Святой, да вознесется слава Его. Когда человека постигнет несчастье, то он пусть взывает не к Михаилу и не к Гавриилу, а ко Мне, и я тотчас же внемлю его просьбе, как сказано: «Кто всегда будет обращаться к Господу, тот спасен будет». Цель и назначение творенья-человек, который, поэтому, и сотворен был последним, «когда все уже было приготовлено к его приему». Когда он достигает совершенства добродетели, тогда он «стоит выше самих ангелов». Далее талмудические ученые следующим образом объясняют сотворение человека в шестой день: В первый день, говорят они, Господь, как сказано в Писании, сотворил небо и землю. Во второй день Он сотворил свод небесный. В третий Он сотворил на земле траву, семена и деревья. В четвертый Он снова на небе, сотворил солнце, луну и звёзды. В пятый — на земле — все живое, имеющее дыхание и наполняющее воздух, воды и сушу. Но в шестой день, Господь сотворил человека — не всего из земли и не всего из неба — но из обоих вместе: гармоническая связь между небом и землею... Один он — человек — сотворен был позже всех, и даже комар древнее происхождением и родом, чем человек. Затем он один только был сотворен в тот день. «Это доказывает тебе, что жизнь всякого единичного человека стоит целого мира» и что всякий индивид имеет право сказать «Мир сотворен ради меня», т. е. что абсолютное равенство всех людей начертано на первой же странице Св. Писания, и далее, что никто не может сказать ближнему: «Мой отец был выше твоего отца». Долг всеобщей любви к человечеству — без всякого решительно различия — постоянно, поэтому, соединяется с выражением Св. Писания «человек». «Не израильтянин, не левит, не священник, говорит Св. Писание, а человек». В споре о том, какой самый важный стих Св. Писания, один талмудический ученый указывает на слова: «Люби ближнего, как самого себя», а другой самым важным местом считает слова: «И вот человеческие племена» — не о той или другой нации говорится, не о том или другом классе, а только о человеке, только людьми они должны называться. Ведь и откровение Израилю происходило же не в ночной темноте и тишине, не на родине одного какого-либо народа, а в пустыне, на пути, открытом для всех народов, при дневном свете, при громе и молнии, гласно, громко, свободно — и для всех людей. Однако — характеристически прибавляет Талмуд — избранным местом был Синай, одна из самых мелких и незначительных гор, а дух Божий всегда лишь нисходит на тех, кто скромен и смирен сердцем. Далее талмудические ученые, желая внушить истинную любовь ко всем созданиям, говорят: Идти путями Господа — значит подражать Его делам: как Он, на первой же странице книги Моисея, является одевающим нагих (первая человеческая чета), а на последней — хоронящим мертвых (смерть Моисея), так должны поступать и люди. Вместо всяких заключений, приведем здесь следующее, во всех отношениях характеристическое, предание Гагады: Когда египтяне потонули в том же самом Чермном море, чрез которое израильтяне прошли целы и невредимы, ангелы хотели петь победный гимн. Но Господь рассердился на них за это и сказал: «Мои дети погибли в морской глубине, а вы хотите петь победные гимны?...» Воззрениям о радикальном равенстве всех людей, если они только подчиняются известным необходимым условиям человеческой культуры, (так называемым семи основным законам сыновей Ноя), совершенно соответствует и отвращение Талмуда ко всякого рода прозелитизму. Кто постоянно воздерживается от идолопоклонства, тот, говорит Талмуд, уже поэтому одному, ipso facto, считается евреем, и пускай он во всем прочем остается верным своему дому и своему родству. Как бы ни толковали известное изречение Нового Завета «об обнимании суши и моря из-за прозелита», все же неопровержимым фактом остается то, что Талмудом вменяется в обязанность ставить всевозможные затруднения с целью навеять страх на желающего принять иудейство, уж не говоря о тех, которые желают перейти в иудейство посредством крещения (а крещение это чисто еврейского происхождения) из боязни или расчета, или из любви к мужчине или женщине — таким лицам отказывают без всяких объяяснений. Почти всякие пределы переходит любовь к «детям». Где Св. Писание говорить о «цветных садах и ручейках», там эти слова относят к детям и их школам. Они, «помазанные Бога», точно также, как учителя их называются, то «звездами», то «пророками». Когда Господь хотел дать свой закон, Он спросил еврейской народ, какую гарантию он даст ему, что закон этот будет свято охраняем. Евреи указали на праотца Авраама. «Он согрешил». Они указали на Исаака, Иакова, — самого Моисея. «Они все согрешили». Тогда они воскликнули: «Пусть же дети наши будут за нас порукою!» И Господь согласился на это, как сказано: «На лепете грудных младенцев основал Он царство свое». Не менее строго, однако, вменяется Пятикнижием уважение и почтение к «сединам». Не одни только новые скрижали закона, но и те, которые Моисей разбил и которые, вследствие этого, уже сделались лишними, свято сохранялись в кивоте завета.
XIXПо воззрениям Талмуда, чудеса — как все движения нашего тела у Лейбница — считаются возможными лишь при известного рода «предопределенной гармонии», т. е. ход творения ими не был нарушен и они существовали с самого начала. Они «сотворены» были после всех предметов, в вечерние сумерки шестого дня. К этим чудесам причисляется также — весьма интересное сообщение для наших палеографов — и искусство письма, открытие, действительно граничащее с чудесным. Творение, с этими, так называемыми исключениями раз установленное уже не могло подвергаться изменениям. Следующая изречения: «Что было, то было», — «чудо, случившееся с Эсфирью было последним чудом» (Эсфирь, поэтому, в применении к известному псалму, и называют «ланью зари», потому что с нею настал день), — «выздоровление больного есть большее чудо, чем уцеление лиц, находившихся в огненной печи», — «с кем случается чудо, тот иногда, вовсе этого и не замечает», — «охранение от греха должно считать чудом», — «не подвергайся опасности, ибо не всякой день случаются чудеса» — все эти изречения достаточно характеризируют, в этом отношении, талмудические воззрения. Законы природы продолжают действовать с неизменимой силой, сколько бы зла от этого ни происходило. «Эти нечестивцы не только оскверняют мои монеты» — говорить Гагада, относительно увеличения нечестивцев и их сообщников, имеющих лик Божий — «но они принуждают меня еще на фальшивые монеты налагать мою собственную печать». Учение о душе во многом напоминает воззрение греческих школ. В особенности, идея Платона о независимости и самостоятельности души (как чего-нибудь мыслящего), в противоположность телу, сильно отражается в Талмуде, и ему недостает только воззрения, что есть еще какой-то «третий», который проходит чрез всю систему Платона. Душа, сама по себе, существует с самого начала, и все души, которые когда либо соединятся с телами, все они сотворены уже раз навсегда — в первый момент творения — и находятся под крепкой охраной у престола Божия. Как творениям самых высших сфер — им все известно, пред ними ничто не сокрыто; но в тот час, когда они переходят в человеческое тело, ангел дотрагивается к устам рождающегося дитяти, которое забывает все что было. Сравнение между Богом и душой имеет почти пантеистический характер. «Подобно тому, как Господь наполняет всю вселенную, говорит Гагада, так и душа наполняет все тело; подобно тому, как Господь видит, но сам невидим, так и душа видит, но сама невидима; как Господь питает всю вселенную, так и душа питает все тело; как Господь чист, так и душа чиста». Эта святость и чистота особенно ярко рисуется в противоположность теории о первородном грехе, которая решительно отвергается. «Не бывает смерти, если нет греха у самой личности; не бывает печали, без преступления самой личности. Тот самый дух, который обнаруживается в словах Св. Писания: «И не должны умереть родители за своих детей, а дети за своих родителей», повелевает также, чтобы «никто не был наказан за преступления другого». При обсуждении преступления, главным образом, принимается на вид animus, равно как и желание совершить преступление считается более преступным, чем самое деяние. — Душа — дочь Бога, и потому ей «всегда тесно на земле», как говорится в Писании. Она вечно стремится в высшие сферы и горюет о своем изгнании на землю. Она сообщает Богу о добродетелях и проступках людей и ее, равно как и ее покрывало (тело), ждет награда и наказание. Быть благочестивым и вести добродетельную жизнь — это зависит исключительно от самого человека. «Все в руце Божией, кроме богобоязни». Но «один час покаяния лучше всего будущего мира». Всякому человеческому существу предоставляется, в этом отношении, полная свобода, хотя помощь Божия необходима и для достижения этой цели. Имя Бога не произносимо; однако есть многое эпитеты, которые указывают на его качества; таковы, например: «милосердый» (рахман) — «аллах, милосердый, рахман», как называет его Магомет — «святой», «пространство», «небеса», «Господь», «слово», «сила», «имя», «Отче наш на небесах», «Всемогущий», «Шехина» или «Святое присутствие». Догмат воскресения и бессмертия, на который неясно намекают некоторый места Ветхого Завета, развивается Талмудом, который ссылается на библейские изречения и основывает его на них. Отношение между нынешним миром и будущим изображается в разных сравнениях. Мир земной есть «проздор (преддверие) будущего мира: «Приготовься в передней, дабы ты мог войти в самый дворец», или: «Нынешний мир — это станция на пути; будущий же — это настоящий дом твой». Праведные изображаются вечно совершенствующимися и развивающими свои высшие способности даже в будущем мире; «для праведных нет покоя, ни в том, ни в будущем мире; они, как говорит Писание, идут постоянно «от войска к войску», — т. е. от стремления к стремлению — «они увидят Бога в Сионе». Каким образом все их действия и время, в которое они были совершаемы, равно как и ужасы могилы, открываются взору возвратившейся на небо души, как они под землею возвратятся в Иерусалим в день, когда раздается великая труба — обо всем этом мы не будем здесь распространяться. Эти полуметафизические, полумистические соображения совершенно в духе древних более поэтических отцов церквей, а в новейшее время, — в духе Буньянов, Мильтонов и Клопштоков. Разница только в том, что могучая фантазия и выразительность языка выгодно отличают талмудические изображения от многословия позднейших писателей. Воскресение, при помощи мистической силы «жизненной росы», совершится в Иерусалиме - на Масличной горе. Талмуд не знает вечного проклятия. Даже для самых тяжких грешников существует лишь временное, проходящее наказание. «Из рода в род» будет продолжаться осуждение идолопоклонников, отступников и изменников. Однако, между небом и адом всего только пространства «в два пальца»; грешник должен только истинно покаяться - и ворота вечного блаженства откроются пред ним. Ни одно человеческое существо не исключается из будущего мира. Всякий, к какому народу и к какой бы религии он ни принадлежал, если он только считается праведным, войдет туда. Наказание нечестивых подробно не изъяснено, как вообще все изображения будущего мира отличаются своей неясностью и темнотою; только относительно рая, идея о невообразимо высоком обнаруживается на каждом шагу. Слова: «Ни один глаз не видел, ни одно ухо не слышало» — относят к его невыразимому блаженству. «В загробной жизни нет ни яств, ни питья; ни любви, ни труда, нет ни зависти, ни ненависти и споров. Праведные сидят с коронами на голове и освещаются блеском величия Божия». — Сущность пророчества дает повод к разным рассуждениям в Талмуде. Одно авторитетное изречение говорит, что божественный дух может овладевать лишь человеком мощным, мудрым, богатым и смиренным. Мощь и богатство объясняются в Мишне следующим образом: «Кто мощен? Тот, который одолевает свои страсти. Кто богат? Тот, который довольствуется своим уделом?» Есть разные ступени между пророками. Моисей видел все с полной ясностью, все другие пророки — как бы сквозь темное стекло (speculare) (а не «зеркало», как думает Лютер). Или: все пророки видели как бы чрез покрывало (velum), один только Моисей видел все «лицем к лицу» — с полной ясностью. Езекииль и Исаия говорят одно и тоже; однако Езекииль говорит как житель деревни, Исаия — как житель города. Словам пророка нужно подчиняться во всем, кроме разве, когда он будет склонять к идолопоклонству, и если бы он в доказательство, что он послан Богом, «приостановил даже движение солнца». Талмуд решительно отвергает, что Илия и Моисей действительно взошли «на небо»; точно также, что Божество когда либо удалилось от неба на расстояние более «десяти пядей». Выражение: «святой дух» постоянно употребляется в Талмуде, равно как и выражение «царствие небесное». В чем талмудическое понятие этих выражений отличается от позднейшего, более конкретного христианского понятия — самым ясным образом можно видеть из следующих мест Талмуда: «Десятью именами обозначен в Писании «святой дух», именно: — парабола, сравнение, загадка, речь, язык, отражение, веление, видение, пророчество, представление» — т. е. вдохновенное слово. Или (и это по-видимому единственный остаток эссейской литературы) ступени человеческого совершенства представляются начинающимися вместе с «законом». Закон, от постепенного возвышения по ступеням физической и моральной чистоты, ведет к благочестию, от благочестия к смирению, от смирения к боязни греха, от последней к святости, а от святости уже к самому «святому духу». Этот последний ведет к воскресению. Весьма характерно для талмудических учителей различие мнений, обнаружившееся по поводу упомянутого места Талмуда. Выше даже самих последних ступеней стоит благочестие сердца — так гласит одно воззрение, между тем как другое, ссылаясь на Св. Писание, доказывает, что смирение стоит выше даже этого последнего и самого «святого духа».
XXТалмуд не имеет и не знает научной системы этики. Однако его «мораль» отлично можно вычитать из той «маленькой монеты», из тех могучих народных поговорок, гномов и сентенций, которые характеризуют время еще лучше народных песен. Этими поговорками и гномами мы заключим наш этюд. Мы считаем за лучшее представить их здесь врассыпную, в том виде, как мы нашли их, чем самим построить из них систему «этики» или «обязанностей сердца». Мы считаем лишь своим долгом присовокупить, что предлагаемые пробы, равно как и все другие приведенные нами цитаты, переданы из Талмуда по возможности буквально. Мы также считаем совершенно лишним заметить, что мы, ни в каком случае, не думали, ни отыскивать, ни избегать параллелей между Талмудом и Новым Заветом — между океаном и прибрежным морем, хотя повод к таким сравнениям можно найти на каждом шагу. Точно так же мы не намерены объясняться здесь, почему мы, серьезными рассуждениями о так называемом «вопросе первоначальности», — который нередко еще там и сям можно слышать в темных сферах, — не выдаем testimonium paupertatis здравому смыслу наших читателей. Но мы однако должны заметить здесь, что многие места, часто цитируемые из Нового Завета и приписываемые специально христианству, как например, «благословляйте тех, которые проклинают вас, додайте добро тем, которые ненавидят вас», и т. д. вовсе не упоминаются в авторитетных рукописях Нового Завета, ни в Codex Sinaticus, ни в Vaticanus, оба IV века, между тем как в Талмуде они рассеяны везде в бесчисленных вариациях. — «Будь ты проклинаемым, а не проклинающим. Будь ты из тех, которые преследуются, а не из тех, которые сами преследуют. Бери пример со Св. Писания. Ни одной птице ловцы так не страшны, как голубю, а между тем Господь его избрал, как достойного быть принесенным в жертву на алтаре. Вол преследуется львом, овца — волком, коза — тигром. А Господь сказал: «Принесите мне в жертву не тех, которые преследуют, а тех, которые преследуются». — «Мы читаем далее в Св. Писании, что пока Моисей, в войне с Амалеком, держал руки поднятыми — Израиль побеждал. Разве руки Моисея вели войну или приостанавливали ее? — Это показывает тебе лишь, что пока Израиль возносит свои взоры к небу и смиренно преклоняется пред Господом, он побеждает, когда же нет — он падает». — «Точно так же ты читаешь: «Моисей сделал медную змею и прикрепил ее к шесту, и если какая-нибудь змея бывало укусить кого, а он посмотрит на змею медную, то остается жив». Неужели же ты думаешь, что эта змея могла убивать и воскрешать? Это значит лишь, что пока Израиль будет возносить свои взоры к Отцу на небесах он будет жить; если же нет — он погибнет». — «Неужели Господу приятны мясо и кровь жертвоприношений? — спрашивает пророк. Нет, Он не установил жертвоприношений, а только допустил их. Это для вас нужны жертвы, а не для Меня, говорить Он. Подобно королю, который, видя своего сына, ежедневно пирующего с разными негодяями, говорит ему: Ешь и пей впредь у моего стола, как ты сам желаешь, — так и Господь. Они жертвовали демонам и дьяволам, потому что они привязаны были к жертвоприношениям и не могли отказаться от них. И Господь сказал: Приносите ваши жертвы Мне, вы, по крайней мере, тогда будете жертвовать истинному Богу». — «Писание повелевает пробуравить ухо тому еврейскому рабу, который «любить» свое рабство — почему? Потому что то же ухо слышало на горе Синае: «Они Мои слуги; они не должны быть проданы как крепостные — они Мои слуги, а не слуги слуг». И этот человек добровольно отказывается от предоставленной ему свободы — проткните же его ухо!» — Тот, кто приносит жертву всесожжения, награждается за жертву всесожжения, кто приносить жертву на огне, тот получает награду за жертву на огне; но тот, кто приносит Богу и людям смирение, награждается так, как бы он принес все жертвы в мире. — Дитя любит мать больше отца, а отца боится больше матери. Взгляни же как Св. Писание ставит отца прежде матери в велении: «Люби отца твоего и мать твою», а мать ставит прежде в велении: «Чти мать твою и отца твоего». — Благословляй Бога как за добро, так и за зло. Если тебя известить о смерти кого либо, ты скажи: «Благословен будь судья праведный». — Даже когда ворота, чрез которые восходят к небу молитвы уже закрыты, то ворота, чрез который восходят слезы, остаются открытыми. — Молитва — это единственное оружие Израиля, оружие унаследованно от предков и испытанное в долголетней борьбе. — Когда праведный умирает, то это земля, которая несет потерю. Потерянный алмаз все остается алмазом, но тот, кто потерял его, пусть пойдет и плачет. — Жизнь — это проходящая тень, говорит Св. Писание. Что же это: тень башни или дерева — тень, пребывающая долгое время на одном месте? Нет. Это тень птицы во время полета — улетела птица, и не осталось ни птицы, ни тени. — Покайся за день пред твоею смертью. — Однажды король пригласил всех слуг на великолепный пир, но не назначил часа, в который этот пир начнется. Одни пошли домой, одели свои лучшие платья и стали у дверей дворца, другие же говорили: время еще терпит; король даст нам заранее знать. Но король внезапно объявил, что пир начинается. Благоразумные, которые оделись в лучшие свои платья, были хорошо приняты, неблагоразумные же, которые были еще в своей обыкновенной одежде, не были вовсе допускаемы: поэтому, покайся уже сегодня, ибо ты завтра можешь быть призван. — Цель и назначение мудрости — раскаяние и добрые дела. Даже праведному из праведных не дадут на небе такого почетного места, как искренно раскаявшемуся. — Награда за добрые дела — тоже что финики: они поздно созревают, но сладки. — Последнее благословение мудреца своим ученикам состояло в следующем: я молюсь за вас, чтобы вы Бога столько же боялись, сколько вы боитесь людей, вы избегаете греха в присутствии людей, избегайте же его также и в присутствии Всевышнего. — «Если Господь Бог ваш не терпит идолопоклонства, почему же он его не уничтожает?» — спросил язычник. И ему ответили: смотри, они обоготворяют солнце, луну и звёзды; разве ты желал бы, чтобы Господь из-за этих глупцов уничтожил прекрасный мир? «Если Бог ваш друг бедных, спросил другой язычник, то почему он им не помогает?» Забота о них, ответил мудрец, предоставлена нам, дабы мы за то приобрели себе заслуги и искупали свои грехи. «В чем же тут заслуга?» — возразил язычник. Представь себе, что я рассердился на своего раба и оставил его без пищи и питья; а тут придет кто-нибудь и тайком даст ему пить и есть — разве это было бы мне приятно?» Ты не так рассуждаешь, ответил мудрец: положим, ты рассердился на твоего собственного сына и заключил его без пищи и питья, а тут придет добрый человек, пожалеет его и утолит его голод и жажду — неужели ты бы стал на него сердиться? И мы, хотя и называемся рабами Божьими, но мы в тоже время и дети Его. — У кого гораздо больше познаний, чем добрых дел, тот подобен дереву со многими ветвями, но с немногими корнями, которое пошатывается при первом ударе ветра; тот же, у кого добрых дел куда больше чем познаний, подобен дереву со многими корнями и немногими ветвями: самые сильные бури ничего ему не сделают. — Люби жену твою как самого себя и почитай ее больше самого себя. — Кто живет без жены, тот живет без радости, без утешения, без благодати. — Спускайся ступенью ниже, когда ты выбираешь себе жену. — Если жена твоя мала ростом, то наклоняйся к ней и говори ей на ухо. — Кто оставляет любовь юности, о том плачет алтарь Божий. У кого жена умирает, тот как бы присутствует при разрушении храма — мир для него покрывается мраком. — Только чрез жену Бог ниспосылает благодать свою на дом. Она обучает детей, поощряет мужа посещать молитвенный дом и учебные заведения, приветствует его, когда он возвращается, держит дом чистым и незапятнанным, и благодать Божья лежит на всем этом. — Тот, кто женится из-за денег, тому дети его будут проклятием. — Дом, который не открывается для бедных, будет открываться для врача. — Даже птицы в воздухе презирают скрягу. — Кто тайно раздает милостыню, тот выше Моисея. — Почитай детей бедных, ибо от них исходит учение. — Честь твоего соседа должна быть для тебя также дорога, как твоя собственная; лучше броситься в раскаленную печь, чем публично оскорбить кого-либо. — Гостеприимство — одно из важнейших средств истинно служить Богу. — Три венца есть: венец закона, венец священства и венец царственный; но венец доброго имени выше всех их вместе. — Железо ломает камень; огонь расплавляет железо; вода тушит огонь; облака несут воды; буря рассеивает облака; человек одолевает бурю; страх ослабляет человека; вино уничтожает страх; сон прогоняет вино; смерть же отнимает все, даже сон. Соломон же мудрый говорит: милосердие избавляет от смерти. — Каким образом можешь ты избежать греха? Помни три вещи: откуда ты происходишь, куда ты уйдешь и кому ты должен будешь отдать отчет во всех твоих действиях: царю царей, всесвятому, да прославлен будет. — Четыре человека не войдут в рай: насмешник, лгун, ханжа и клеветник. — Клеветать — тоже что убивать. — Петух и сова — оба ожидают дневного света. Свет, говорит петух, приносит мне радость, но тебе, сова, зачем он? — Когда вор не имеет случая воровать, то он считает себя честным человеком. — Если друзья твои единодушно называют тебя ослом, то ступай и возложи на себя седло. — У твоего друга есть друг, и у друга твоего друга тоже есть друг, поэтому, будь воздержен. — Собака бегает за тобой из-за хлебных крох, которые ты имеешь в твоем кармане. — Не говори: повесь мне эту маленькую рыбку — тому, в семействе которого кто-нибудь был повешен. — Верблюду захотелось иметь рога и ему обрезали уши. — Солдаты сражаются, а героями считаются цари. — Вор ломает двери и просит Бога о помощи. — Шестидесятилетняя женщина также восхищается музыкой, как и шестилетнее дитя. — За вором тянется воровство, за нищенствующим — нищета. — Если нога твоя обута, ты растаптываешь терны. — Когда вол падает, тогда являются много мясников. — Спускайся ступенью ниже, когда ты выбираешь жену, и поднимайся ступенью выше, когда ты выбираешь друга. — Если у тебя есть какой-нибудь недостаток, то сам объяви об этом. — Счастье делает богатым, счастье делает умным. — Разбивай кумиры, и жрецы дрожать будут. — Если б не было страстей, никто не строил бы дома, не взял бы себе жены и не занимался бы никакой работой. — Солнце уже само сойдет, без твоей помощи. — Свет не мог бы обойтись без торговцев пряностями и без кожевников: но горе кожевнику, благо пряноторговцу! — Дураков в пример не ставят. — Никто не ответственен за слова, произнесенные им в горе. — Один произносит молитву за столом, другой ест. — Кто стыдлив, тот не легко подпадет греху. Большая разница между тем, который стыдится самого себя, и тем, который стыдится лишь других. Это хороший признак — если человек умеет стыдиться. — Сокрушенное сердце лучше действует, чем удары плетьми. — Если предки наши были подобны ангелам, то мы только люди, если же они были лишь людьми, то мы подобны ослам. — Не живи в соседстве с благочестивым дураком. — Если хочешь повеситься, то выбирай высокое дерево. — Ешь лучше лук и сиди в тени, и откажись от гусей и птиц, если это причиняет тебе беспокойство. — Маленький статер (монета) в большом кувшине производит ужасно много шуму. — Если кувшин попадет на камень — горе кувшину; камень попадет в кувшин — горе кувшину: как бы ни случилось — все горе кувшину. — Даже когда бык глубоко всунул голову в корыто, взберись на крышу и притяни с собою лестницу. — Стяни лучше шкуру с падали на улице и пропитайся этим; но остерегайся говорить: я священник, я из благородного рода — такая работа меня недостойна. — Молодость — венок розовый, старость венец терновый. — Пользуйся прекрасной вазой, хоть бы один день, хоть бы она завтра разбилась. — Последний вор вешается первым. — Приучай язык твой произносить: я не знаю. — Сердце первых праотцев наших было широко, как самые широкие двери храма; сердце позднейших предков, — как вторые по ширине двери храма; наше же сердце тоже, что игольное ушко. — Не пей и не подпадешь греху. — Не важно то, что ты сам о себе говоришь, а то, что другие о тебе говорят. — Не место украшает человека, а человек место. — Кошка и мышь мирятся из-за одной падали. — Пес, вдали от своей конуры, семь лет не осмеливается лаять. — Кто ежедневно осматривает свои владения, тот всякий раз находит маленькую монету. — Кто сам ставить себя ниже, тот поднимается, кто сам ставить себя высоко, тот будет унижен. — Кто гонится за славой, того она избегает, кто избегает славы, зат ем она гонится. — Кто одолевает свой гнев, тому прощаются его грехи. — Кто не преследует тех, которые его преследуют; кто смиренно принимает обиду; кто делает добро из любви; кто утешает себя в горе — все эти друзья Бога и о них говорит Писание: «Они будут блистать подобно солнцу в его блеске». — Если ты два раза совершишь одно и тоже преступление, то оно тебе покажется дозволенным. — Когда конец приходить человеку, тогда всякий считает себя призванным быть его господином. — Когда любовь наша была горяча, мы находили себе место на острие сабли; теперь, когда она остыла, для нас мало и ложа, шириною в двадцать сажень. — Галилеянин сказал: «Когда пастух сердится на свое стадо, то он слепого барана ставит вожатым». — День короток, а работы много, но работники ленивы, хоть хозяин и торопит. Не на тебе кончит работу: но ты и не должен отказываться от нее. Если ты много сделал, то тебе награда будет большая, ибо хозяин, на которого работаешь, добросовестный в платеже. Но знай, что истинная награда не в мире сем... Торжественно, как напоминание и как утешение, звучит в ушах наших: «Не на тебе — кончит работу». — Когда учителя закона входили в академию или выходили оттуда, то они произносили краткую горячую молитву, в которой благодарили за то, что «им удалось довести свое дело до сего», прося, «чтобы никакое зло не происходило от рук их, чтобы они не впадали в заблуждение, чтобы они не объявляли чистым то, что было не чисто; и чтобы слова и дела их были благосклонно приняты Богом и людьми...»
[1] Богословская критика. [2] «On sait qu’il ne reste aucun manuscrit du Talmud pour controler les editions imprimёs», Les Apôtres, стр. 262. [3] Автор намекает здесь на талмудическое изречение: «Все зависит от рока, даже свитки в Кивоте». [4] Новелла 146, данная на имя Prefectus Pretorio Areobinous. [5] Слова: Гемара и Талмуд — синонимы. [6] Если он выйдет без названия «Талмуд», то должен быть терпим. [7] Сочинение известного Парацельса, представителя школы тайной медицины. [8] Кто хочет понять поэта, / Тот должен отправиться на его родину. [9] Египетская мифология. [10] Ученых, учителей законов Моисеевых. [11] Талит, покрывало, которое евреи одевают во время молитвы. [12] Rullis - верхнее одеяние греков и римлян. [13] Некоторые из этих выражений были греческие; другие, взятые из безыскусственной народной речи, из арамейского, поэтически указывают на специальное размещение младших и старших учеников, как напр. «ряд», «виноградник», «где они сидели рядами, как лозы стоят в цвету»; еще другие имели такое неопределенное происхождение, что могли принадлежать и к тому и к другому языку. Так, выражение для высшей школы заставило этимологов сильно ломать себе голову: это выражение — калла. Это или еврейское слово, которым обозначается «невеста» — хорошо известное аллегорическое название науки, за которой усердно должно ухаживать, которая не легко поддается и от которой легко отчуждаются; или это искажение греческого слова «схола» школа; — а может быть это буквально то же самое, что наше слово «университет», от еврейского — кол, все, universus. в современном значении — все обнимающее учреждение для всех отраслей знания. [14] Двойные законы. [15] Летучие заметки. [16] Из греческого и латинского языков взяты, напр., названия явств и напитков (collyris, acraton, troxima, scutella, oenogarum, комнаты (coiton, eunh, exedra), triclinum’a и подушки (accubitum). стола (tabula, trapeza, tripouV), стула (sella), бокала (vasa, ampulla, cyathus) и т. д.,и т. д. И не только отдельные слова, но и целые обороты, даже целые фразы, встречаются в Талмуде в их первоначальной греческой или латинской форме. Между названиями различного рода одежд, мы встречаем otolh, sagum, dalmatica, draccae chirodeta. На голове носили pileus, опоясывались zwdh. Слова: sandalium, solea, solens, talaria, impilia суть названия разного рода обуви. Дамы наряжались в catella, cochlear, porp (parufh) и всякого рода кольца, застежки и браслеты, носившие римские и греческие имена, — словом все то, что принадлежало к изящному туалету греческих и римских дам того времени. Между оружием мужчин упоминается logch, macaira (это слово встречается и в Пятикнижии), а также латинское pugio.
|
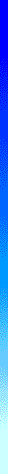
|
 
|

|
 70 Kb |