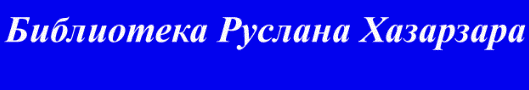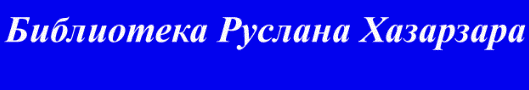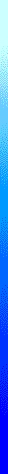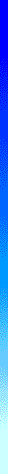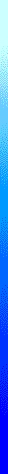 |
|
А. Ф. Лосев
История античной философии
в конспективном
изложении[1]
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ПРИНЦИП И СТРУКТУРА ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
I. Дофилософская, то есть социально-историческая, основа
§1. Общинно-родовая формация
§2. Рабовладельческая формация
II. Общефилософская, то есть теоретически-проблемная, основа
§1. Основная философская проблематика античности. Миф и логос
§2. Материя и идея
§3. Душа, ум и космос
§4. Первоединство
§5. Итог
III. Исторически-проблемная основа
§1. Необходимое условие историзма
§2. Основные периоды
КЛАССИКА. ЧУВСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС КАК ОБЪЕКТ
§1. Вступление
§2. Ранняя классика
§3. Средняя классика
§4. Зрелая классика
§5. Поздняя классика
РАННИЙ И СРЕДНИЙ ЭЛЛИНИЗМ.
ЧУВСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС КАК СУБЪЕКТ
§1. Ранний эллинизм
§2. Средний эллинизм
ПОЗДНИЙ ЭЛЛИНИЗМ. ЧУВСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС КАК МИФ
§1. Ранний римский неоплатонизм
§2. Сирийский неоплатонизм
§3. Афинский неоплатонизм
§4. Неоплатонизм и античная мифология судьбы
ПАДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ
§1. Дальнейшая эволюция неоплатонизма
§2. Общефилософские направления в связи с веком синкретизма
§3. Гностицизм
КРАТЧАЙШАЯ СВОДКА
ВВЕДЕНИЕ
ПРИНЦИП И СТРУКТУРА ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Античная философия, то есть философия древних греков и древних римлян,
зародилась в VI в. до н. э. в Греции и просуществовала до VI в. н. э. (когда
император Юстиниан закрыл в 529 г. последнюю греческую философскую школу.
Платоновскую Академию). Таким образом, античная философия просуществовала около
1200 лет. Однако ее невозможно определять только с помощью территориальных и
хронологических определений. Самый важный вопрос — это вопрос о
сущности античной философии.
Согласно учению о том, что процесс исторического развития есть смена
общественно-экономических формаций, а формация есть
“общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,
общество со своеобразным отличительным характером”[2], причем для изучения жизненного функционирования мышления в
эпоху античной культуры необходимо отдавать себе отчет в том, что такое
общинно-родовая формация и что такое формация рабовладельческая. Античная
философия в VI в. до н. э. как раз и зарождается вместе с рабовладельческой
формацией, но общинно-родовая формация целиком никогда не исчезала в античное
время, а в последнее столетие своего существования оказалась даже прямой
реставрацией именно общинно-родового мировоззрения. Живучесть общинно-родовых
элементов в течение всего тысячелетнего античного рабовладения производит прямо
разительное впечатление. Поэтому до-философская основа античной философии,
проявлявшая себя как общинно-родовая и рабовладельческая формация, должна быть
учтена в первую очередь.
I. ДОФИЛОСОФСКАЯ, ТО ЕСТЬ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ, ОСНОВА
§1. Общинно-родовая формация
1. Основной метод общинно-родового
мышления. Общинно-родовая формация возникает на почве родственных
отношений, которые лежат в основе и всего производства, и распределения труда
между членами и общиной, и распределения продуктов труда. Если под характером
производства понимать производственную категорию, то здесь перед нами вполне
доклассовое общество. Это — тот первобытный коллективизм, где вся не только
экономическая, но и политическая, и военная жизнь общества определяется только
самой же общиной, во главе которой стоит сначала женщина как ближайший принцип
родственных отношений (матриархат), а впоследствии — мужчина, когда пришлось в
известной мере отделять организационные функции от чисто родственных отношений
(патриархат); но везде и всегда в общинно-родовой формации более всего понятными
были именно родственные отношения. И когда возникал вопрос о природе или мире в
целом, то и в этой, чисто объективной области тоже не находили ничего иного,
кроме родственных отношений, то есть кроме отношений родителей и детей, братьев
и сестер, дедов и внуков, предков и потомков. Решительно все на свете: и
солнце, и луна, и звезды, вплоть до неорганической и неодушевленной природы, —
все это понималось как всеобщая родовая община. И поскольку такое всеобщее
одушевление жизненно-родственных элементов есть признак мифологического
сознания, то необходимо считать, что основной метод общинно-родового мышления —
это мифология.
2. Этапы развития общинно-родового
мышления. Мышление невозможно без установления различия предметов и их
сходства, их множества и единства, их причин и следствий, то есть без
установления той или иной абстрактной структуры действительности. Вначале эта
структура мыслится еще в своем полном тождестве с самой же действительностью,
так что необходимые для мышления душа и дух еще вполне тождественны с самой же
материей. Это — фетишизм, при котором
принцип жизненнородственных соотношений вещи с окружающим коллективом, или, как
стали потом говорить, ее демон, ее душа или дух и, еще позднее, ее сущность и
идея, оставался неотделимым от физического тела самой вещи. Следовательно, это
еще не абстракция, но преддверие абстракции.
Однако, ставши на путь мышления, человек очень скоро начинает и более
самостоятельно расценивать признаваемые им в основе действительности элементы
мыслительной структуры. Дух постепенно начинает отделяться от материи, и в
представлении первобытного человека возникают существа, в той или иной мере
свободные от материальных вещей, от которых они раньше были неотделимы и
которые они одушевляли, находясь в них же самих. Другими словами, наступала
эпоха анимизма. Сначала демон данного
дерева не был от него отделим. Затем в порядке растущей мифологической
абстракции этот демон стал не только демоном данного дерева, но демоном
деревьев вообще. И поскольку это касалось не только отдельных предметов или
областей действительности, но и всей действительности в целом, то появлялись
демоны все более широкой значимости: демоны земли, рек, полей, лесов, гор, воды
и воздуха, отдельных областей земли и неба и, наконец, всей земли и всего неба.
Это — развитой анимизм.
Наконец, в связи с эволюцией общинно-родовой формации в общинах стала
возникать прослойка людей более организованных, более самостоятельных и более
свободных от непосредственного производительного труда. Появлялась своеобразная
общинно-родовая аристократия, получившая для себя уже некоторого рода
возможность и время также и для развития отдельных личностей, которые до тех
пор были всецело подчинены общине и потому даже и не понимались как
самостоятельные личности. Но с ростом самостоятельной личности росло также и
самостоятельное мышление. И как только это мышление стало доходить до выработки
абстрактно-обобщенных понятий, то тут же наступал и конец абсолютного
господства мифологии.
Однако эта появляющаяся в недрах общинно-родовой формации личность была еще
слишком слаба, чтобы находиться вне всякой зависимости от других людей и от
самой общины. Такие мыслящие личности, поскольку они отходили от
непосредственного труда, могли существовать только на основе труда других
людей, трудившихся, но самостоятельно еще не мысливших. А это и были рабы.
3. Возникновение рабства. Рабство
возникло как естественный продукт развития общинно-родовой формации, которая
уже не могла обеспечивать свое существование только средствами
индивидуально-нерасчлененного и стихийно-коллективистского производства. Но
освобождающийся для этого индивидуум был слишком слаб и бессилен, чтобы
обеспечить себя и свою общину. И первейшим способом выхода из этого
противоречия оказалось появление рабства. Родовая община стала теперь
рабовладельческим полисом, в котором старые, общинно-родовые авторитеты
отходили на вторые места, а вместо них водворялся союз рабовладельцев, которые
стали теперь в целом организаторами новой общественно-экономической формации.
Вначале рабство было прогрессивной силой. Затем оно стало умеренным и
гармоничным соотношением всей общественной, политической и культурной жизни. В
дальнейшем, однако, оно стало отставать от растущих производительных сил и в
конце концов превратилось в то реакционное устроение жизни, от которого погибло
и оно само, и вся античная культура.
§2. Рабовладельческая формация
1. Принцип. Общинно-родовая
формация в связи с ее растущей мифологической абстракцией дошла до
представления таких живых существ, которые уже не были просто физическими
вещами и не были просто материей, но стали чем-то почти внематериальным. Тем не
менее все же говорить о полной нематериальности здесь было еще рано. Признак
вещественности все равно оставался даже и на этих нематериальных богах и
демонах, а именно в виде чрезвычайно тонкой и разреженной материи. Говорить о
чистом духе, повторяем, здесь было еще рано. Но когда появилось абстрактное
мышление, оно и стало, с одной стороны, конструировать уже чисто мыслительные
категории, а с другой стороны, материально-вещественная основа этих категорий
оставалась незыблемой в течение всей античности.
Рабство принесло с собою строгую необходимость различать умственный и
физический труд. Одни стали работать, но не заниматься умственным творчеством,
а другие стали умственно творить, но уже не занимались физическим трудом, а
такое раздвоение тут же вызвало и мыслительную необходимость различать
бездушную вещь и управляющего этой вещью человека. Раб в античности трактуется
не столько как человек, сколько как вещь, действующая не по своей воле, но по
воле посторонней, то есть это не цельный человек, не личность, но лишь ее
чувственно-материальный момент. При этом напрасно думают, что рабовладелец есть
полноценный человек. Ничего подобного. Рабовладелец тоже не был цельным
человеком, а только той его стороной, которая делает для него возможным быть
погонщиком рабов, чтобы он целесообразно направлял деятельность раба. А это
значит, что рабовладелец, если его брать как деятеля рабовладельческой
формации, есть не человек, не полноценная личность, но лишь интеллект человека,
и притом достаточно абстрактный.
Однако рабовладелец и раб не могут существовать один без другого. Они
представляют собой нечто целое. Сначала это маленький древнегреческий полис, а
в дальнейшем — огромная Римская империя. Следовательно, живая, но бессмысленная
вещь, которой, по мнению древних, является “раб”, должна была
объединяться в нечто целое с организующим ее абстрактным интеллектом.
Таким образом, принцип рабовладения есть жизненный синтез раба как вещи,
способной производить целесообразную работу, но без личного намерения и
инициативы, и рабовладельца как формообразующей идеи в виде абстрактной
инициативы, то есть без телесного участия в выполнении этой инициативы.
2. Логическое (то есть структурно-смысловое) развитие принципа.
На основе этого рабовладельческого принципа вырастает и его логика.
а) Раб есть не человек, но вещь, способная производить целесообразную
работу. И поскольку рабский труд является здесь материей уже всего
жизненного процесса, то и в области логики мы встречаемся прежде всего с такой
материей, которая лишена собственной инициативы и потому является только
потенцией целесообразно формируемой жизни. И мы увидим ниже, что понятие
материи как потенции является в античности повсеместной категорией, которая
объединяет собою даже таких разномыслящих философов, как Платон и Аристотель.
б) Рабовладелец тоже не есть личность, но вне-личностная формообразующая
идея. Отсюда и вся античная логика тоже исходит из такого понимания идеи,
при котором она тоже не есть личность, но только внеличностный формообразующий
принцип.
в) Однако раб и рабовладелец не существуют один без другого, но образуют
собою нечто целое, а именно рабовладельческий полис, или государство. Для
логики это значит, что имеется также и целостное единство идеи и материи; и
поскольку раб и рабовладелец являются противоположностями, то их цельное
единство может быть только диалектическим и, конечно, тоже внеличностным.
Так как логика продумывает свои категории до конца и до их предела, то имеется
и предельное состояние указанного единства. А поскольку предел совмещает в себе
все свои возможные приближения и является для них общим и их объясняющим
принципом, то в античности необходимым образом возникает представление о
чувственно-материальном космосе, который и является не только
цельно-диалектическим объединением всех вещей и всех идей, но и их идеальным
принципом. Конечно, внеличностным. Античный космос есть тоже
пространственно-временная, то есть вполне обозримая вещь, только очень большая,
предельно большая вещь; и в то же самое время она есть предельная оформленность
в виде вечного, но вполне обозримого целесообразного движения небесных светил.
г) Это не значит, что входящие в чувственно-материальный космос элементы
лишены всякой свободы и вступают между собой только в механическую связь.
Наоборот, составляющие его элементы действуют теперь как орудия целого. А это
значит, что они теперь являются героическими. Боги, демоны и герои не
суть личности в полном смысле этого слова, потому что они являются в античности
только обобщением природных свойств или явлений. Но, отражая на себя все целое
и потому творя его волю, они являются героями, так что чувственно-материальный
космос есть оплот всеобщего героизма.
Однако, с другой стороны, чувственно-материальный космос не имеет ничего
другого, что было бы выше его самого, и потому он основан сам же на себе. Он и
есть последний абсолют. Именно в этом внеличностном абсолюте творится как все
целесообразное, так и все нецелесообразное. И тогда нет никакой более высокой
причины, которая объясняла бы эту внеличностную природу
чувственно-материального космоса; нет никакого более высокого и личностного
разума, который (как это оказалось впоследствии, в средние века) сознательно
создавал бы всю жизнь чувственно-материального космоса и направлял ход его
развития, а следовательно, нет никакой соответствующей сознательно действующей
воли, при помощи которой высший разум творил бы всю эту чувственно-материальную
жизнь космоса. Античный чувственно-материальный космос уже сам по себе полон
жизни, души и мысли, но в нем нет ничего личностного, нет водящего и намеренно
действующего субъекта.
Но тот принцип, который внеличностно, то есть бессознательно и стихийно,
одинаково творит все целесообразное и нецелесообразное, есть не что иное, как
судьба. Поэтому логика рабовладельческой формации необходимым образом
заканчивалась не только учением о героизме, но и учением о фатализме.
д) Итак, логическое развитие рабовладельческого принципа приходит к тому,
что утверждается чувственно-материальный космос как абсолют, то есть как
внеличностное единство идеи и материи, а это и значит единство героизма и
фатализма. К этому можно прибавить только то, что чувственно-материальный
космос, будучи абсолютом, ни в чем не нуждался, то есть нуждался только в самом
себе. А так как вещи, обобщением которых он являлся, находились в постоянном
становлении, то и чувственно-материальный космос тоже вечно становился, то есть
вечно становился самим собою, вечно приходил к самому же себе. А это значит,
что он находился в вечном круговращении, в котором чувственно-материальный
космос вечно повторял самого же себя. Поэтому античный чувственно-материальный
космос внеисторичен. Он астрономичен, но не историчен. Вечное
круговращение, или вечное возвращение к самому же себе, — это есть его история.
Другими словами, античный чувственно-материальный космос, будучи целостью и
единством всех вещей, — а всякая вещь, взятая в самой себе, телесна, но не
исторична, — обязательно требовал идеи вечного возвращения. Этот космос
вечно переходил от хаоса к всеобщему оформлению и от этого последнего к хаосу.
Подобное вечное круговращение хаоса и космоса было в античности не только
понятно и убедительно, но также успокоительно и утешительно. Космос был
абсолютом, то есть в своем принципе никогда не возникал, и никто его не
создавал, и никогда не мог погибнуть, но внутри этого всеобщего космоса,
поскольку он необходимым образом есть также и свое собственное становление,
вполне соответственным образом возникало то оформление, то распадение отдельных
элементов становления. На фоне всеобщего космоса это вечное возвращение было не
только естественно, но и вполне утешительно.
II. ОБЩЕФИЛОСОФСКАЯ, ТО ЕСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИ-ПРОБЛЕМНАЯ, ОСНОВА
§1. Основная философская проблематика античности. Миф и логос
Если основным методом и основной идеологией общинно-родовой формации была
мифология, то рабовладельческая формация, возникшая на почве разделения
умственного и физического труда, в идеологической области уже не могла
удовлетвориться мифами и должна была заменить их рациональными построениями.
Все эти категории в скрытом виде, конечно, были и в самой мифологии, но
функционировали они там в слитном и нерасчлененном виде. Рабовладельческое
сознание, будучи уже мышлением, а не мифологической фантазией, должно было
расчленить все эти категории и потому быть в конфликте с мифологией. Но
конфликт этот, однако, не мог быть окончательным, поскольку родственные
отношения продолжали играть огромную роль и в период внеродственных отношений.
От семьи и рода некуда было деться, хотя рабовладельческий полис уже не имел
прежнего родственного авторитета, а был авторитетом только в меру необходимости
совместной жизни рабовладельцев и рабов. Собственно говоря, рабовладельческое
мышление было не столько критикой мифологии, сколько критикой ее
антропоморфизма. Если на очереди стояла выработка мыслительных категорий,
то для чистого мышления авторитетом уже была, конечно, не мифология, но только
собственная же, чисто мыслительная последовательность. Поэтому переход от
общинно-родовой формации к рабовладельческой ознаменовался, во-первых, критикой
антропоморфизма, а во-вторых, стремлением вместо мифологии создать мыслительную
систему абстрактных категорий.
Но абсолютного отрицания мифологии, повторяем, здесь не могло быть, ведь
само же рабовладение, как мы сейчас установили, базировалось на
вещественно-телесных интуициях. А такого рода интуиция, конечно, была на первом
плане и в период мифологии. Надо было только эти вещественно-телесные интуиции
выдвинуть на первый план и отвергнуть всю базировавшуюся на них общинно-родовую
картинность. А это и значило критиковать антропоморфизм, оставаясь на почве
вещественно-телесного мироощущения, и вместо него строить систему абстрактных
категорий. В современной науке это часто обозначается как переход от мифа к
логосу.
§2. Материя и идея
1. Диалектика материи и идеи. Из предыдущего ясно, что в системе
абстрактных категорий противоположность материи и идеи должна была играть
первейшую роль. Но материя должна была признаваться только как потенция, а идея
— только как формообразующий принцип целесообразной структуры. Кроме того, ясно,
что материя и идея должны были также мыслиться настолько противоположно, что их
единство могло трактоваться только диалектически. Поэтому диалектика материи
и идеи навсегда осталась основной проблемой всей античной философии.
Материю признавали не только материалисты, например Демокрит, но и все
идеалисты, и в первую очередь Платон, который никогда и не думал отвергать
материю, а только признавал ее недостаточность для цельной картины мира ввиду
ее чистой, то есть внесмысловой, текучести. И Демокрит называл свои атомы
идеями (и даже богами), и Платон называл свои идеи атомами. Разница была только
в расстановке логического ударения в пределах одной и той же абстрактной
категории, но сами эти абстрактные категории всегда оставались в античности
незыблемыми.
2. Специфика античных представлений о материи. Диалектика идеи и
материи была решительно во всех культурах — доантичной и послеантичной. Поэтому
история античной философии должна выдвигать здесь на первый план именно свою
специфику.
а) Что касается материи, то в связи с тем, что рабский труд без участия
рабовладельца не создавал окончательного и целесообразного продукта (поскольку
сам раб был не человеком, а только вещью), то и материя в античном смысле не
была готовой продукцией, а трактовалась только как потенция любых
явлений действительности. Рабовладелец тоже не был человеком в собственном
смысле слова, а был только формообразующим принципом вещественно-телесной
действительности. Поэтому также и античная идея не была просто идеей вообще, но,
во-первых, всегда вещественно-телесной, то есть картинно представляемым планом
вещественно-телесного продуцирования, почему для этого и были привлечены
термины “идея” или “эйдос”, уже по самой своей этимологии
(“эйдос” — древнегреч. “вид”) указывавшие на физическое
видение. А в философской области эти термины указывали на такое умственное
построение, которое всегда было мыслимой картиной действительности, тем, что в
ней “было видно”. Во-вторых же, античная идея, будучи формообразующим
принципом, никогда не трактовалась неподвижно или абстрактно даже и в
платонизме, где она всегда привлекалась как динамически-творческий принцип
построения космоса.
б) Однако не только идея и материя, но и связывающая их диалектика тоже
имела в античности свою специфику. Так как раб был не человеком, но вещью и
рабовладелец был тоже не человеком, но только организатором вещи, то и
диалектика идеи и материи тоже обладала в античности вещественно-телесным
характером. Это значит, что при всей своей внешней активности внутренне
такая диалектика была пассивна, духовно пассивна, созерцательна. Она всегда
много суетилась по поводу фактического состояния дел, но была неспособна
коренным образом переделывать действительность. Этот
пассивно-созерцательный характер античной диалектики остался в ней
навсегда.
3. Специфика античных представлений об идее. Весь этот античный
вещественно-телесный характер диалектики идеи и материи наложил неизгладимый
отпечаток не только на материю, но и на идею, причем формулировать сущность
античной идеи гораздо труднее, чем сущность античной материи. Поскольку
исходная интуиция гласила о такой вещи, которая способна производить
целесообразную работу, но не способна действовать по собственной инициативе, то,
как это было сказано выше, материя в таких условиях могла мыслиться только как
потенция. Правда, потенция эта в разные периоды античности имела самое
разнообразное содержание, начиная с чисто теоретической заданности или
заряженности, и кончая полноценным жизненным наполнением. Но в чем античная
специфика идеи, участвующей в создании целесообразного продукта?
а) Такая идея, во-первых, обладает чисто мысленным характером,
поскольку она не есть труд, но только целесообразное направление труда. Поэтому
не следует удивляться тому, что при всем стихийном материализме античности
нематериальная идея разрабатывалась в античности с такой детализацией, с такой
рассудочной охотой и с такой любовью к спорам и разногласию.
б) Во-вторых, такая идея, будучи идеей вещественно-телесной, всегда обладала
в античности ярко выраженной зрительной природой. Она была одновременно
и умственной, и зрительной, так что интеллектуальная интуиция, столь мало
понятная многим философам Нового времени, в античности подразумевалась сама
собою и не требовала для себя никаких доказательств.
в) В-третьих, поскольку целесообразная направленность вещи все-таки зависела
не от самой вещи, а от ее идеи, то эта идея, будучи и чисто умственной, и чисто
зрительной, в то же самое время обладала необычайно активным характером.
Погруженность мысли в ее собственную рассудочную и словоохотливую стихию
оказывалась на деле активно действующей силой, динамически проявляющей себя
программностью, практически заостренной систематикой. Внутренняя пассивная
созерцательность удивительным образом совмещалась здесь с внешней и весьма
деловитой направленностью. Платон ищет истину. Но как? Только путем бесконечных
разговоров и споров, путем изысканного и многословного диалога, в конце
которого спорщики иной раз даже и прямо отказывались окончательно решить
обсуждаемый вопрос ввиду трудности найти истину. Аристотель тоже везде ищет
истину. Но как? Только путем бесконечного расчленения понятий и путем выяснения
тончайшей терминологии, заставляющей иной раз переходить к самому настоящему
словарю весьма дробной и утонченной терминологии. В античной философии был
многовековой скептицизм, изощреннейшим способом доказывавший, что ничего не
существует, а если что-нибудь существует, то оно непознаваемо; и если оно
познаваемо, то оно невыразимо. От последней четырехвековой неоплатонической
философии до нас дошли сотни страниц самой воинственной и микроскопически
разработанной логики, однако часто весьма мало связанной с практическим
творчеством жизни.
г) В-четвертых, поскольку рабы и рабовладельцы не существовали одни без
других, но являлись частями органического целого, то формообразующий принцип
вещественного устроения должен был доходить до последних деталей и переходить в
такое свое становление, в котором он, не переставая быть принципом, проявлял
себя как сплошное и непрерывное становление, которое сразу было и
невещественным, и вещественно-текучим принципом этого становления. Поэтому
античная диалектика никогда не находилась ни в своей рассудочной изоляции, ни в
своей только одной текучей вещественности. Античная диалектика всегда была
текуче-сущностным становлением идеи. Все проходимые ею текучие этапы
всегда тоже имели свой смысл, свою идею, но уже в континуальном виде.
д) И наконец, в-пятых, будучи целесообразным творчеством жизни, античная
диалектика при всей своей духовной пассивности всегда была в жизненном смысле
весьма напряженной динамикой, всегда эмоционально способствовала
активно-творческому созиданию материальных ценностей жизни.
Таким образом, специфической особенностью античной диалектики при всей ее
(1) пассивно-созерцательной духовности всегда была (2) зрительная, (3)
рассудочно-хлопотливая и (4) текуче-сущностная (5) динамика созидания
материальных ценностей жизни.
§3. Душа, ум и космос
1. Душа и ум. а) Античные философы поразительно часто говорят о душе
и уме. Так как материя и идея трактовались пассивно, а действительность находилась в непрерывном движении, то
для нее мало было только одной материи и только одной идеи. А так как, кроме
действительности, ничего не может быть, то ясно, что действительность должна
двигать сама себя. Но то, что движет само себя, античные философы называли
жизнью, или душой; а то, что движение это совершалось целесообразно, заставляло
признавать еще и сознательную запроектированность этого движения, которую
античные мыслители называли умом. И для античной специфики этих двух категорий
тоже важно учитывать два обстоятельства.
б) Во-первых, и душа, и ум трактовались в первую очередь не как
субъективно-человеческие, но как объективно-космические.
Ведь поскольку шла речь о самой действительности, то в античности не было
никаких оснований трактовать ее движущие принципы как только
субъективно-человеческие. Субъективно-человеческие душа и ум трактовались
только в виде отражения их объективных аналогов, и притом отражения весьма
слабого. Во-вторых же, поскольку исходная интуиция говорила не о личности, но о
вещественной телесности, постольку и душа, и ум трактовались в античности тоже
внеличностно. Душа была принципом самодвижения и движения, но это не значит,
что она была личностью. И космический ум был целесообразно направляемой идеей
космоса, но вовсе не такой личностью, которая бы действовала сознательно и
намеренно, то есть по своей воле и по своему произвольному желанию и
потребности. Такая душа и такой ум не по своей преднамеренной воле, но уже по
своей вечной природе действуют именно так, а не иначе.
2. Чувственно-материальный космос. Перед нами возникает одна из самых
первичных категорий античного мышления — “космос”. Здесь тоже не
нужно забывать об исходной, вещественно-телесной интуиции в античности. Раз
вещь и тело есть принцип, то и все, что основано на этом принципе, тоже должно
быть вещью и телом. А основан на этой вещи и на этом теле не более и не менее
как сам космос, который в пределе и есть не что иное, как максимально обобщенная
вещь, как сумма всех возможных вещей. Но если так, то и весь космос есть не что
иное, как чувственно-материальный космос, то есть космос видимый и
слышимый, с землею посредине, с небесным сводом и звездным небом наверху,
обязательно видимым и слышимым, и подземным миром внизу. В этом тоже
удивительная специфика античной космологии, которая бесконечно отлична и от
духовного понимания неба в средние века, и от бесконечно пространственного
понимания его в Новое время. Чувственно-материальный космос является для
античности самым настоящим абсолютом, так как ничего другого, кроме космоса, не
существует и ничем другим этот космос не управляется, как только самим же
собою. Его никто и никогда не создавал, так как иначе пришлось бы признавать
какое-то бытие еще до космоса, и притом бытие деятельное, творческое. Но
поскольку, кроме чувственно-материального космоса, вообще нет ничего, он
зависит только от самого себя, имеет свою причину только в самом же себе и его
движение определяется только им же самим. Чувственно-материальный космос для
античности есть ее последний абсолют. Душа и ум, о которых мы говорили выше,
являются душой именно этого, то есть чувственно-материального, космоса и умом
именно этого же космоса. Но если так, то для философии возникает здесь еще одна
проблема.
§4. Первоединство
Вещь, как ясно само собой, есть не только нечто неподвижное, но и нечто
становящееся. Но поскольку становление всегда есть та или иная степень
становящегося, а также и любая комбинация этих степеней, то это значит, что
вещи действуют не только целесообразно, но и хаотически. Поэтому и душа, и ум,
хотя бы и понимать их объективно-космически, устрояют космос целесообразно, но
допускают также и любую нецелесообразность, включая любое хаотическое
расслоение. Тогда ясно, что одной целесообразности мало для космической души и
для космического ума.
1. Единство разумного и неразумного. Другими словами, возникает
необходимость признавать еще и такое начало, которое совмещало бы в себе и все
целесообразное, и все нецелесообразное. Это не значит, что нужно выходить за
пределы космической души и космического ума. Но это значит, что в самом же
космосе необходимо было признавать особого рода начало, которое объединяло бы
собою и все целесообразное, что творится душой и умом, и все нецелесообразное,
что не творится душой и умом и тем не менее обязательно существует в том же
самом космосе. Отсюда возникает поразительная склонность античного мышления
признавать еще и такое начало, которое выше самого мышления и которое вмещает в
себя также и все внемыслительное. Это начало в античности называлось
“единым” или “одним”. Оно трактовалось выше души и ума, а в
конце античности даже и выше самого космоса. Но оно только и существовало в
самом же космосе.
2. Судьба. а) Это единое интересно для истории философии еще и в том
смысле, что это было не чем иным, как философской концепцией судьбы.
Выше мы уже видели, что если признается только одна вещественность, то как бы
мы ни трактовали ее в ее последнем пределе, она обязательно требует для себя
своего объяснения. Поскольку, однако, кроме вещественно-телесного раба, кроме
вещественно-телесного рабовладельца и кроме вещественно-телесного их
объединения, ничего другого не существует, то вся эта стихия вещественности в
конце концов остается все же необъясненной. На стадии космоса эта
вещественность дошла и до души, и до ума. Но душа и ум, взятые в чистом виде,
являются принципами вещественной целесообразности. А как объяснять всю
нецелесообразность, также царящую в реальной вещественной действительности?
Она-то и остается необъясненной. А так как, повторяем, кроме
вещественно-телесной области, ничего не признается, то это значит, что
последовательное рабовладельческое мышление необходимым образом приходит здесь
к понятию судьбы. Космос имеет душу и ум. Но он ни за что не отвечает,
поскольку таковым он существует вечность. Признавать что-нибудь отвечающим за
все зло — это не значит признавать за ним только душу и ум. Это значило бы
признавать за ним еще и личность. Но никакой личности античный космос не знает;
его единое, о котором мы сейчас говорим, тоже не личность, а скорее какая-то
стихия. Следовательно, в античности приходилось отказываться от конечного
объяснения зла, то есть признавать для его объяснения судьбу.
б) Итак, чувственно-материальный космос, если он трактуется как абсолют,
требует признания для себя такого своего первоединства, которое является
принципом и всего в нем целесообразного, и всего в нем нецелесообразного.
Судьба и есть внеличностный принцип объяснения всего целесообразного и всего
нецелесообразного, возникающего в чувственно-материальном космосе в условиях
признания его в качестве последнего абсолюта. Такое совпадение всего
целесообразного и нецелесообразного, всего умственного и душевного, а также
всего умственно-душевного и телесного античные философы называли единым,
все превосходящим первоединством и решительно все охватывающим и везде
наличным первоединством.
§5. Итог
1. Общая формула итога. Основная античная проблематика имеет своим
содержанием чувственно-материальный космос как абсолют, то есть как
целесообразно управляемый душой и умом, а если включить и все космически
нецелесообразное, то управляемый и первоединым, то есть судьбой. Во всей этой
античной философской проблематике исходная рабовладельческая
вещественно-телесная интуиция проявляет себя и во всем крупном, и во всех
мелочах. Очень важно отметить, что античные философы не очень любят рассуждать
о судьбе, поскольку общенародное представление о судьбе фиксирует ее как нечто
чересчур внешнее и надчеловеческое. Античные философы хотели, чтобы все
нецелесообразное и все нечеловеческое функционировало в одной плоскости со всем
целесообразным и со всем человеческим, почему и судьба трактовалась не как
предмет безотчетной человеческой веры, но тоже как чисто человеческая концепция,
как чисто космическая сила. А тогда такую вне-личностную и внечеловеческую силу
становилось необходимым трактовать в одной плоскости со всей человеческой и
космической целесообразностью, со всей человеческой и космической
упорядоченностью. А это и значило трактовать такой принцип, трактовать судьбу
как философскую категорию, то есть трактовать ее как высшее первоединство, или
как разумный и внеразумный принцип одновременно.
Таким образом, взятая в наиболее общем виде, античная проблематика сводилась
на диалектику идеи и материи, разрабатываемую в виде
чувственно-материального космоса, движимого космической душой, управляемого
тоже космическим умом и создаваемого сверхдушевным и сверхумственным
первоединством.
Такова чисто философская, то есть теоретическая, основа античной философии.
2. Историческое значение специфики этого итога. Специфика
формулированного нами итога очень важна в том отношении, что только при ее
помощи и можно противопоставлять античность последующим культурам. Во всех этих
культурах очень много античного, и во многих отношениях античность оказалась
каким-то вечным образцом. Тем не менее, если античная философия является для
нас чем-то определенным, чем-то самостоятельным, чем-то несводимым ни на какие
другие культуры, необходимо во всяком случае четко формулировать античную
специфику и отчетливо противопоставлять ее всяким другим, неантичным методам
мышления.
В самом деле, например, средневековая философия тоже признает и
существование чувственно-материального космоса и тоже дает его неоплатоническую
обработку. И тем не менее существует один момент, который раз и навсегда
противопоставляет античную и средневековую философию, какие бы совпадения здесь
ни наблюдались. Именно, последним и окончательным абсолютом для античной
философии является чувственно-материальный космос, поскольку исходная интуиция
всего рабовладения гласила только о телесных вещах и, самое большее, о
возведении всех чувственно-материальных вещей на предельную ступень тоже
чувственно-материального космоса. Совсем другое дело — средневековое мышление,
в котором основной интуицией была не интуиция чувственного тела, а интуиция
личности. Поэтому абсолютом здесь оказался не чувственно-материальный космос,
но личность, которая выше всякого космоса и которая является даже его творцом и
создателем. И какие бы совпадения мы ни находили между средневековым
монотеизмом и античным пантеизмом, то и другое никогда и ни в каком смысле не
могут отождествляться, откуда и непроходимая пропасть между античным и
средневековым мышлением.
Точно так же очень многое и в Новое время совпадало с античностью, и
новоевропейские мыслители всегда многому учились в античности, и часто учились
весьма охотно, даже и с восторгом. И опять-таки: вся новоевропейская философия
тоже исходит из личности, но только не абсолютной, а относительной,
человеческой. Это была не абсолютная личность средневековья, но
абсолютизированная человеческая личность, для которой чувственно-материальный
космос уже меньше всего имел самостоятельное значение, а большей частью имел
значение предмета научно-художественных построений.
Наконец, и в век зарождающегося социализма основной интуицией является
вовсе не интуиция чувственно-материальной вещи, но интуиция
свободно-деятельного и творчески-трудового коллектива.
Итак, формулированную нами специфику античной философии никак нельзя
забывать уже по одному тому, что без этого невозможно будет устанавливать
специфику и всех послеантичных культур. Если бы античная культура не имела
своей специфики, то устанавливать эту специфику для позднейших культур
оказалось бы весьма затруднительно и даже едва ли возможно.
Наконец, предлагаемая нами специфика античной философии вовсе не есть
что-нибудь для нее унизительное. Ведь К. Маркс справедливо говорит о том, что
греки были нормальными детьми и что взрослый человек всегда будет с любовью
вспоминать свое детство, если оно было нормальным. Поэтому если для ребенка мир
сначала ограничивается одной комнатой, или одним домом, или одной улицей, то
нет ничего удивительного и неестественного в том, что для древнего грека мир
ограничивался только видимым, слышимым и вообще чувственно воспринимаемым
небом. И не было ничего противоестественного в том, что космос вообще
трактовался в античности как пространственно ограниченное физическое тело. Это
было вполне естественно, и установленная нами специфика античной философии была
явлением не только естественным, но на свой манер даже глубоким и красивым.
III. ИСТОРИЧЕСКИ-ПРОБЛЕМНАЯ ОСНОВА
§1. Необходимое условие историзма
Поскольку всякая история состоит из разных периодов развития, всегда был
соблазн чересчур изолировать один исторический период от другого, чересчур их
противопоставлять один другому, вплоть до точной фиксации хронологических
границ с чересчур раздельным указанием начал и концов такого развития, без
всякого учета непрерывности перехода одного периода к другому. То, что каждый
исторический период есть нечто самостоятельное, и то, что его необходимо
точнейшим образом противопоставить предыдущему и последующему периодам развития,
это совершенно ясно и это вполне необходимо, поскольку без этого вообще нельзя
будет установить ни одного исторического периода, а следовательно, установить и
самого развития, самой истории.
Тем не менее история отнюдь не есть только логика отдельных понятий. Все
отдельные логические понятия назревают в истории постепенно и иной раз даже
едва заметно. Каждая логическая категория представлена в истории бесчисленным
количеством едва заметных оттенков, и для каждого вполне раздельного и
прерывного скачка необходимы десятки, если не сотни, лет непрерывного и на
первый взгляд едва заметного, едва раздельного развития.
Кроме того, если мы что-нибудь установили как именно античную философию, а
она просуществовала больше целого тысячелетия, то ясно, что, как бы отдельные
периоды ее развития ни отличались один от другого, они в то же самое время,
хотя и незаметно, содержат в себе каждый раз всю эту античную философию
целиком. Другими словами, каждый период исторического развития обязательно
содержит в себе всю античную философию целиком, и можно говорить только о
преобладании какого-нибудь отдельного ее момента в данный период ее истории, да
и эти преобладающие моменты фактически всегда существуют в виде едва заметного
и вполне непрерывного развития.
Поэтому всякое установление отдельных периодов философского развития носит
относительный и приблизительный характер, так что историк философии ни в каком
даже самом мелком историческом моменте не может забывать и того целого, чем
является античная философия в своем максимально общем виде.
Основная периодизация античной философии, как это видно на основании всего
предыдущего, конечно, связана в первую очередь с общекультурным развитием
античности, но это последнее в свою очередь связано с античной
общественно-исторической формацией, то есть с рабовладением.
Отсюда возникает и соответствующая конкретная периодизация истории античной
философии.
§2. Основные периоды
1. Мифология. Как мы видели выше, мифология предшествует античной
философии, и ее социально-историческая необходимость у нас уже обоснована.
Сейчас, в преддверии самой философии, мы должны сказать, что мифология тоже есть
определенное мировоззрение, и в этом смысле она тоже содержит в себе нечто
философское. Но все эти философские элементы на стадии мифологии даны в слитном
и нерасчлененном виде. Такую философию нужно назвать дорефлективной
философией. То, что после абсолютного господства мифологии объявит себя уже не
как мифология, но как философия, по необходимости будет заключаться только в
том, чтобы расчленить отдельные мировоззренческие моменты, которые в самой
мифологии даны нерасчлененно и вполне слитно.
2. Классика. Чтобы понять, каковы эти основные философские моменты
мифологического мировоззрения, надо учитывать то, что рабовладение началось
именно как разделение умственного и физического труда. В первую очередь это
означает, что мифологию стали рассматривать уже не как абсолютную слитность, но
прежде всего как объект мышления. Умственный труд, то есть мышление, требует
для себя своего собственного объекта, который подвергался бы исследованию. Если
нет объекта для мышления, то, очевидно, нет и самого мышления, поскольку всякое
мышление есть мышление о чем-нибудь.
Это и привело к тому, что первый период античной философии является такой
философией, которая рассматривает цельный чувственно-материальный космос по
преимуществу также в виде объекта. В период абсолютного господства мифологии
чувственно-материальный космос был не только объектом, он же был и основным
субъектом, он же был и слиянием объекта со всеми субъектами. Но первый период
античной философии отличается тем, что как раз вся чувственно-материальная
действительность трактуется по преимуществу как объект. Все остальное в
чувственно-материальном космосе, например одушевление, остается здесь
нетронутым, но все превращено только в объект исследования.
Начальный период античной философии был тем, что обычно именуется ее
классикой. Это — период VI — IV вв. до н. э.
3. Ранний эллинизм. Как мы уже хорошо знаем, миф есть картина живых и
одушевленных существ, а живые и одушевленные существа являются не только
объектами, но и субъектами. Субъект есть арена мышления, чувства, воли, аффектов
и, вообще говоря, сознания и переживания. Субъект уже не есть просто объект, но
такой объект, который дошел до соотнесения себя самого с самим же собой. Объекты
являются тем, что кем-то сознается. Но субъект есть то, что сознает само себя.
До такого самосознания объективная действительность, если она существует сама
по себе, в классике еще не доходит или доходит частично, не принципиально.
В принципиальном смысле субъект выступил в античной философии только тогда,
когда создалась определенная социально-историческая обстановка. Субъективное
самосознание было и раньше, но раньше оно было ограничено ранним
рабовладельческим полисом, за пределы которого тогдашнее мышление почти не
выходило. Но отдельный крошечный рабовладельческий полис скоро перестал
оправдывать свое существование и начал разваливаться ввиду поисков жизненных
ресурсов уже за пределами отдельного полиса. В IV в. выяснилась необходимость
объединения всех полисов в единое государство уже мировых размеров, откуда
появилась и неизбежность таких колоссальных явлений, как завоевания Александра
Македонского. При этом стало ясно, что старый и наивный полисный механизм уже
не годился для организации и поддержания завоеванных стран.
Отсюда и возникла эллинистическая военно-монархическая организация. Тут-то
и появляется в античности субъект уже нового и небывалого типа, который, с
одной стороны, был необходим для организации международных объединений, а, с
другой стороны, однажды получивши самостоятельность, мог тем самым углубляться
сам в себя и даже быть в антагонизме с окружавшими его военно-монархическими
организациями.
Такого рода ситуация бывала в человеческой истории не раз. Так, в новой и
новейшей Европе широко развивались наука и техника и тем самым бурно
развивалось денежное обращение. И все это требовало огромного развития
субъективных усилий человека. Но такой человек чувствовал и свою
самостоятельность, тем самым уходил в свои собственные глубины. И поэтому, чем
больше росла техника и денежное обращение, тем более глубоко развивалось
субъективное самочувствие человека. Социально-историческая действительность
требовала необычайного развития отдельной человеческой личности, но эта
личность, сама же создававшая технику или денежное обращение, сама же и
ненавидела и то и другое, несомненно оказываясь в мучительном диалектическом
противоречии.
Таковы были в античности три главные школы раннего эллинизма — стоицизм,
эпикуреизм и скептицизм. Чувственно-материальный космос, конечно, и тут
оставался на первом плане, но тут он рисовался не только в своей объективной
данности, на него переносились и все субъективные человеческие переживания, так
что он оказывался уже не только объектом, но также и колоссальным мировым
субъектом.
Эту эпоху мы условно называем ранним эллинизмом, относя ее к IV — I
векам до н. э.
4. Поздний эллинизм. Остальные века античной философии, то есть I — VI
н.э., мы условно называем поздним эллинизмом, условно потому, что сюда входит и
вся римская философия, настолько развивавшаяся под влиянием греческой философии,
что ее тоже удобно будет относить к позднему эллинизму. Сущность позднего
эллинизма имела свою собственную и весьма реально представленную историю
Окончательный вид философия этого периода получила только в последние четыре
века античной философии, а именно в школе так называемого неоплатонизма,
просуществовавшей в течение III — VI вв. н. э. Любопытнейший принцип этого
неоплатонизма сводится к следующему.
В период раннеэллинистического субъективизма представление о субъекте не
было еще настолько могущественным, чтобы охватить собою целиком и всю
объективную действительность. В период раннего эллинизма эта объективная
космическая действительность только отражала на себе черты субъективного
человеческого мышления. Объект трактовался в свете субъекта, но сам пока еще не
стал своим же собственным субъектом. Оставалась еще могущественная ступень
философии, где (уже всерьез) субъект и объект хотя и различались теоретически,
но практически представляли собою единое и нераздельное целое. Но что значит
это принципиальное неразличение субъекта и объекта, эта их принципиальная и неразрывная
слитность?
Это означает не что иное, как превращение субъекта и объекта в живое
одушевленное существо, которое сразу и навсегда есть и объект и субъект
одновременно.
А так как представлять себе космос как живое и одушевленное существо есть
мифология, то поздний эллинизм и оказался не чем иным, как мифологией. Ясно,
что это уже не была прежняя и старинная мифология, в которой еще не было даже
самой рефлексии относительно субъекта и объекта, то есть дорефлективная
мифология. Поздний эллинизм именно и стал рефлективной мифологией, в
которой все нерасчлененные моменты уже логически расчленились и
противопоставились. А так как чувственно-материальный космос в течение всей
античности оставался абсолютным, то и все его расчленения неоплатонизм
трактовал как абсолютное единство. А отсюда сам собой возникал тот характер
неоплатонической философии, который иначе и нельзя назвать как диалектикой
мифа. Весь неоплатонизм пестрит анализами мифологии. Но в то же самое время
весь неоплатонизм буквально переполнен и диалектическими теориями, которые были
доведены здесь до строжайшей и непоколебимой диалектической системы. Вместо
богов, демонов, героев и людей были формулированы точнейшие логические
категории, и все эти категории были сведены в одну строжайшую систему.
5. Гибель античной философии. Античная философия, как мы видим,
началась с мифа и кончилась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась
исчерпанной и сама античная философия. Однако умирала она отнюдь не сразу. В
самом конце античности появился целый ряд теорий упадка, которые уже
переставали соответствовать античному духу и стали в той или иной степени
зависеть от христианской идеологии, в те времена прогрессивной и восходившей.
Эти упадочные (с античной точки зрения) теории тоже заслуживают рассмотрения,
если мы хотим дать историю античной философии в более или менее существенном и
цельном виде.
КЛАССИКА
ЧУВСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС КАК ОБЪЕКТ
§1. Вступление
1. Элементы. Поскольку весь космос — чувственный и материальный,
таковы же и его элементы — земля, вода, воздух, огонь, эфир.
2. Гилозоизм. Поскольку ничего не существует, кроме
чувственно-материального космоса, и нет ничего такого, откуда происходило бы
его движение, это значит, что он движет себя сам. А это значит, что таковы же и
его элементы, откуда и “живая” их материя (гилозоизм).
3. Абстрактно-всеобщая категориальность. Поскольку объектность еще не
есть вся вещь, а только один из ее моментов, абстрактно выделенный из цельной
вещи, это значит, что и элементы, и самодвижная материя (из которой они состоят),
и возникающий из них космос являются на этой стадии только абстрактно-всеобщими
категориями.
4. Интуиция. Тем не менее, поскольку чувственно-материальный космос,
а также и все, что в нем, являются предметами зрения, слуха, осязания и прочих
чувственных ощущений, то все указанные выше абстрактно-всеобщие категории
даются на этой стадии только интуитивно, или только наглядно-описательно.
5. Интуитивная диалектика. Поскольку телесный элемент и логические
категории могут мыслиться совместно только в порядке диалектического учения о
единстве противоположностей, постольку почти вся античная классика по
необходимости оказывается диалектикой. Однако на той ранней стадии, где космос
как объект мыслится интуитивно, мы получаем и диалектику тоже скорее
интуитивно-описательного, чем логически-категориального характера. Так,
всеобщий мировой огонь и логос у Гераклита отождествляются, но не в порядке
логически обоснованной системы категорий, а в порядке просто фактического
приписывания логоса всеобще-космическому огню. Становление у Гераклита
возникает тоже не в порядке анализа категорий, но в порядке фактического
указания на те или иные этапы космической жизни, переходящие один в другой и
поэтому создающие диалектику, но, конечно, пока еще интуитивную. То же можно
сказать о различии мышления и ощущения у Парменида, о телесной природе чисел в
пифагорействе, о наличии всего во всем у Анаксагора и т. д.
6. Относительность и случайность, неизбежные для чистого интуитивизма.
Поскольку все абстрактно-всеобщие категории даются только интуитивно, постольку
сама собой возникает возможность и даже необходимость самых противоречивых и
зависящих только от человеческого субъекта утверждений субъективно-человеческого
сознания. Это и привело к деятельности софистов в V в. до н. э., которые
доказывали несостоятельность всей бывшей до них натурфилософии и зависимость ее
от человека как от «меры вещей», что вовсе не было субъективизмом, но было лишь
необходимостью рассматривать чувственно-материальный космос не как просто
интуитивно данный объект. Поэтому со строгой исторической точки зрения софистика
сыграла вполне положительную роль, доказав полную недостаточность только одной
интуитивной диалектики и необходимость уже и мыслительной диалектики —
дискурсивной.
7. Четыре периода классики. Два периода классики у нас только что
намечены. Это (1) ранняя классика, когда чувственно-материальный космос
рассматривается по преимуществу интуитивно, и (2) тот период средней
классики, когда космос рассматривался только а) дискурсивно-отрицательно. Другой
период средней классики — б) Сократ, применяет дискурсию не для разоблачения
тогдашней натурфилософии, но для нахождения таких общих идей, которые бы
обезопасили интуицию ранней классики от случайных, условных и недоказанных
понятий.
Но если Сократ сам не занимался природой, то его ученик Платон стал
применять сократовскую теорию общности и ко всей натурфилософской области. И
Платона необходимо считать уже представителем (3) зрелой классики, а его
метод мы находим не в интуиции и не в дискурсии, но в диалектике совсем другого
типа — чисто категориальной, ноуменальной (“нус”) — древнегреч.
“ум”). Иногда диалектику Платона называют спекулятивной. С
точки зрения теоретической термин этот для Платона весьма подходящий, потому
что латинское слово “спекулум” обозначает сразу и умственное
построение, и умственно-зрительную данность этого построения. Однако ввиду
посторонних и досадных ассоциаций, вызываемых в настоящее время этим латинским
термином, употреблять его в отношении Платона едва ли целесообразно. Тут важно
то, что при построении своей диалектики Платон сразу и одновременно рисовал
чувственно-материальный космос и как интуитивно-физическую данность, и как
систему строго логически построенных и диалектически развитых категорий.
Аристотель углубил эту диалектику до степени ее текуче-сущностного
применения, что и заставило его трактовать чувственно-материальный космос не
как диалектику неподвижных и дискретных категорий, но как их энтелехию,
то есть как текуче-сущностное становление. Аристотеля мы считаем уже
выразителем (4) поздней классики.
Этим и был исчерпан весь возможный духовный запас понимания
чувственно-материального космоса как только объекта.
§2. Ранняя классика
1. Принцип ранней классики. а) При изложенном выше понимании
философской истории ясно, что начальный период античной философии был
отражением начального периода античного рабовладения. Но этот начальный период
античного рабовладения, конечно, не мог быть сразу весьма сильно развитым, а
был только вполне непосредственным и вполне наглядным устроением жизни, не
требовавшим для себя никаких доказательств и никакого чересчур удобного и
систематического развития. Это было раннее и вполне непосредственно данное
рабовладение, мало развитое и мало дифференцированное, когда рабовладелец знал
каждого своего раба, когда свободный труд еще не целиком и не окончательно
противопоставлялся рабскому труду и когда раб был, собственно говоря, только
помощником свободно устрояющего свою жизнь рабовладельца.
Правда, эта непосредственность очень скоро стала разрушаться ввиду роста
населения, расширения территории, усложнения потребностей и непрерывно растущих
трудностей сохранить в цельном виде небольшой, но неизменно растущий
рабовладельческий полис. На очереди стояло освобождение индивидуального
рабовладельца от авторитета слишком мало развитого и непосредственного полиса.
Но такого рода освобождение уже вело и к развитию субъективной жизни
индивидуума, до того времени слишком связанной с наивным и патриархальным
полисом, который как раз весьма плохо мирился с индивидуально-субъективной
жизнью. В Древней Греции это было время VII — IV вв. до н. э., когда создавался
рабовладельческий полис, когда он расцветал, когда он начинал разрушаться ввиду
невозможности содержать себя прежними патриархальными средствами, когда стало
необходимо объединяться с другими полисами в более обширное государство и когда,
наконец, возникли завоевания Александра Македонского и возникла необходимость в
военно-монархических организациях.
б) Пользуясь общепринятой терминологией, но понимая ее в точном
общественно-историческом смысле, весь этот период античной философии можно
назвать периодом классики. Однако этот период античной классики, конечно,
был слишком обширным, чтобы мы оставили его без всякого дальнейшего разделения.
И, как мы сейчас увидим, разделение это было весьма глубоким и принципиальным,
хотя многие исследователи и излагатели античной философии отнюдь не всегда
отдают себе полный отчет как в единстве всей этой классики, так и в ее
принципиальной раздельности.
Принципиальное единство всей этой классики античной философии нами уже
формулировано. Это есть учение о чувственно-материальном космосе в его
объективной данности. Что же касается ее принципиальной раздельности, то ее
неоткуда больше взять, как из определения самой же античной философии. Ведь мы
сказали, что каждый период античной философии есть не что иное, как повторение
всей же античной философии, но только с выдвижением на первый план того или
иного преобладающего ее момента. Эти моменты, сказали мы, есть материя, идея и
диалектика материи и идеи. Поэтому будет вполне естественно находить эти же
самые моменты и в периоде классики.
в) Именно, сначала мы находим здесь целый ряд философов, которых интересует
чувственно-материальный космос как абсолют, но данный в объективно-материальном
виде. А так как материя для античности есть не что иное, как одна из сторон
чувственных, а следовательно, и зримых вещей, то ясно, что такой материей могли
явиться здесь только чувственно воспринимаемые качества вещей. Но с такой точки
зрения ближе всего, яснее всего, тверже всего была земля. Более текучей была
вода, еще более подвижным был воздух. Но эти три элемента все еще казались
слишком устойчивыми и слишком мало соответствующими тем обычным представлениям
о вещи, которые требовали не только признания вещей самих по себе, но также и
их возникновения и их уничтожения. Поэтому среди основных элементов фигурировал
еще и огонь, который тоже трактовался как материя, но только материя гораздо
более подвижная и тонкая, гораздо более разреженная. Правда, часто признавался
еще и пятый элемент материи, который необходимо было признавать, поскольку
огонь не только уничтожал все, но тут же уничтожался и сам. Поэтому была
потребность мыслить себе такой элемент материи, который уже никогда и ни при
каких обстоятельствах не уничтожается. А поскольку вечность материи
признавалась сама собой и невозможно было представить себе ее гибель, то,
очевидно, нужно было признавать еще и такой элемент материи, который оставался
бы при всех ее изменениях неизменным и который был бы тоньше, легче и
всеохватнее самого огня. В те времена его называли эфиром; он либо признавался
отдельно существующим, либо был особенно тонкой и легкой, особенно всеохватной
разновидностью огня, чем-то вроде света.
г) Это учение о чувственно-материальном космосе как абсолюте, состоящем из
четырех или пяти указанных материальных элементов, было тем, что явилось
начальным периодом античной философии, ее ранней классикой. Тут были
знаменитые имена: Фалес, Пифагор, Парменид, Гераклит, Анаксагор, Демокрит и
многие другие.
2. Принцип ранней классики в его развитии. а) Сейчас мы указали на
основной принцип ранней классики в античной философии как на выдвижение четырех
или пяти материальных элементов в качестве основы всей философии. Однако
остановиться на этом было бы только первым подходом к существу дела. Все дело в
том, что внешняя и чисто зрительная сторона вещи отнюдь еще не есть вся вещь
целиком. В каждой вещи имеется еще и много других сторон, которые вполне
реально, то есть вполне чувственно, воспринимаются, но отнюдь не сводятся
только на зрительные или осязательные качества вещи. Но уже то одно, что
материальные элементы выставляются в ранней классике на первый план,
свидетельствует о многом другом, и прежде всего о двух подходах к
действительности.
б) Именно, ясно в первую очередь то, что такой элементарный подход к
действительности есть полный и абсолютный объективизм.
Чувственно-материальный космос, который здесь, как и везде в античности,
находится на первом месте, дан только в виде своих материальных элементов, то
есть в первую очередь чисто объективно. Все другие чувственно-материальные
стороны космоса, и прежде всего душа и ум космоса, отнюдь, конечно, не
отрицаются (иначе это была бы уже не античная философия), но все же не занимают
первого места, а занимают второе, третье и еще более отдаленные места.
И во-вторых, выдвижение материальных элементов на первый план обязательно
является результатом некоего рода абстракции, поскольку всякая реальная вещь
отнюдь не есть только собрание своих материальных элементов. Поэтому основной
принцип ранней классики в античной философии по необходимости оказывается
учением об объективной субстанции, и притом установленной при помощи
абстрактно-всеобщих категорий. Здесь нет учения о субъективной стороне
действительности, здесь нет никаких других сторон действительности, и потому
это есть объективная субстанциальность, установленная при помощи
абстрактно-всеобщих категорий. Поэтому напрасно находят в ранней античной
классике только один детский, вполне примитивный и чересчур наивный эмпиризм.
На самом деле это есть весьма строгая и вполне определенная философская
позиция, для которой дело вовсе не в воде или воздухе, но в
объективно-субстанциальной точке зрения с весьма упорно проводимым принципом
абстрактно-всеобщей категориальности.
в) Конечно, можно сказать, что в античной классике из всей диалектики на
первый план выдвигается материя. Это правильно. Но античная материя вовсе не
есть только земля, вода, воздух и огонь. И если эти элементы взяты здесь в
отрыве от общего античного мировоззрения, то потому мы и утверждаем, что эти
элементы рассматриваются в период ранней классики только в виде абстрактных
категорий. Конечно, тут была и своя теория идеи, а потому и своя диалектика, но
и подобного рода идеи тоже трактовались покамест еще слишком абстрактно, а
потому и диалектика идеи и материи тоже трактовалась пока еще слишком
описательно и слишком интуитивно. Такого рода положение дел, конечно, не могло
продолжаться в античной философии долго. Тут же, в середине V в., обозначилось
целое большое философское течение, которое мы называем уже не ранней, но
средней классикой и в которой отвергаемая раньше субъективная сторона вещи уже
получила для себя солидное и весьма прочное признание.
3 Обзор философских направлений. На основе так понимаемого
чувственно-материального космоса как объекта, само собой разумеется, возникали
разные направления ранней классики, из которых каждое подчеркивало тот или иной
момент чувственно-материального космоса и придавало этому моменту
преимущественное значение без отрицания других моментов, занимавших уже
второстепенное место. Если чувственно-материальный космос был, во-первых,
материей физических элементов и, во-вторых, их оформлением, то философские
направления ранней классики как раз и возникали из разного понимания роли
физической материи и роли ее оформления, ее формы, без которой
чувственно-материальный космос тоже не мог существовать, будучи абсолютным
единством и абсолютным порядком.
а) Противоположность материи и формы была представлена уже в самом начале,
поскольку без этого и вообще не мог начаться мыслительный анализ. Учение о
физической материи, об этих знаменитых античных элементах создавалось в (1)
ионийской натурфилософии с Фалесом, Анаксименом и Анаксимандром во главе.
Противоположностью этому было учение о форме у (2) пифагорейцев, причем
форма эта не могла быть совершенно изолированной от материи, но была
оформлением именно материи и потому реализовалась в виде учения о числах, без
которых материя оказывалась бы непознаваемой пустотой, лишенной всяких различий.
б) Но едва ли требует особых разъяснений то обстоятельство, что здесь же
возникали и такие направления, которые ставили себе специальную задачу
совмещения материи и формы. Поскольку материя была становлением и вносила
множественность, а форма трактовалась как устойчивая категория и вносила в
материю единство, то тут же возникли и те два направления, в которых
объединение формы и материи представлялось в виде господства то одного, то
другого принципа. (3) Элейская школа — Ксенофан, Парменид, Зенон и
Мелисс — решительным образом всю множественность подчиняла единству и учила о
таком едином, которое совершенно лишено всякой множественности, а
множественность объявлялась только непостоянной, текучей и смутно-чувственной
природой. Наоборот, (4) атомисты — Левкипп и Демокрит — учили о примате
множественности над единством. Но ясно, что резкое противоположение единства
формы и множественности материи не могло оставаться долго даже и в пределах
ранней классики. Тут же появилась потребность и более существенного объединения
формы и материи.
в) Именно, единство и множественность стали трактоваться как такие
категории, которые необходимым образом переходят одна в другую. При этом такого
рода переход мыслился либо в результате космических переворотов, когда одно
периодически сменяло другое, — (5) Эмпедокл, — либо в виде естественного
и постепенного перехода одного в другое — (6) Диоген Аполлонийский.
г) Наконец, наступала очередь и для сознательного диалектического учения,
когда форма и материя, с одной стороны, трактовались как нечто полностью
раздельное, а с другой стороны, как нечто полностью слитное. И это было уже
зарождением античной диалектики, поскольку речь заходила здесь о форме и
материи именно как о единстве противоположностей. Это единство
противоположностей в ранней классике тоже было представлено двояко. Именно,
становилось понятным превращение этого единства и множества в единый и уже
нерасчлененный поток, в котором они хотя и разделялись, но реально существовали
только в виде общего и непрерывного становления. Это — (7) Гераклит.
Такое становление могло представлять собою форму и материю также и в
специфическом виде. Но тогда уже в форме должна быть налична множественность, а
в самой множественности буквально и раздельно также и сама форма.
Гераклитовский нерасчлененный поток вещей представлялся здесь уже в
расчлененном виде, но с учетом и даже со специальной формулировкой также и
раздельности этого становления. (8) Анаксагор достиг этого в своем
учении о гомеомериях, из которых каждая была неделимым целым, отличным от всего
прочего, но в то же самое время оказывалась носителем и всех других моментов
общекосмического и неразличимого становления.
Таковы те восемь направлений, которые в самой яркой форме выступают при
изучении материалов ранней классики.
4. Переход к средней и зрелой классике. Нетрудно заметить, что с
философской точки зрения самым важным достижением в ранней классике была
попытка охватить становящуюся материю и устойчивые формы этого становления в
одно целое, причем в законченном виде это можно было находить у Гераклита и
Анаксагора. Здесь сам собой возникал вопрос о диалектике, поскольку
материя и форма являются противоположностями, а чувственно-материальный космос,
несмотря на это, представлял собою абсолютное единство. Но учение о единстве
противоположностей мы сейчас называем диалектикой. Ранняя классика, как это
совершенно очевидно, как раз и дошла до диалектики. Но какая это была
диалектика?
Это была диалектика чувственно-материального космоса, в котором выдвигался
на первый план именно он сам, а уже потом начинали говорить о его диалектике.
Но тут же оказалось, что диалектика — это совершенно особая наука, хотя и
связанная по тем временам с абсолютизмом чувственно-материального космоса, но
явно заслуживающая изучения и сама по себе. Ясно поэтому, что тем самым
наступала эпоха необходимости изучения диалектики как специфической дисциплины.
И здесь дело требовало постепенности. Этой диалектикой занималась
средняя классика, но занималась она покамест не для построения
чувственно-материального космоса, но в полном отходе от этого построения,
причем отход этот давал не только положительные результаты, как у Сократа, но и
отрицательные результаты, как у софистов, деятелей того же V в. Такую диалектику
некоторые называют субъективной. Термин этот не вполне удобен потому, что он
относится к той весьма непродолжительной эпохе V в., когда выяснилась
недостаточность простых фактических наблюдений в области
чувственно-материального космоса и необходимость перехода к систематическому
построению чувственно-материального космоса как общедиалектической системы.
Поэтому лучше говорить не о субъективности софистов и Сократа, но о
дискурсивном характере их философии, противопоставляя рассудочную дискурсию как
прежним, интуитивно-описательным построениям, так и последующим,
ноуменально-объяснительным теориям, которые становились теперь уже сознательно
проводимой и всеобщей диалектикой, совмещая в себе интуицию и дискурсию.
Но диалектическое построение чувственно-материального космоса, проводимое
систематически и вполне сознательно, вполне намеренно, это была уже не средняя,
но высокая классика, зрелая классика, а именно Платон, который хотя и
родился в том же V в. (427), но деятельность которого протекала уже совсем в
другие времена, а именно в течение IV в. (умер Платон в 347 г.).
§3. Средняя классика
Средняя классика в античной философии характеризуется выдвижением на первый
план именно дискурсивного подхода к вещам. Другими словами, та идея, которая в
ранней классике оставалась вместе с материей абстрактно-всеобщей категорией,
получает здесь диалектически обобщенную заостренность, причем эта
заостренность, конечно, еще остается слишком абстрактной, поскольку и прежняя,
раннеклассическая материя тоже еще не потеряла своего абстрактно-всеобщего
характера и потому мешала специфическим идеям получить не абстрактно-всеобщий,
а подлинный конкретно-единичный характер.
1. Дискурсия. Именно, если раннюю классику мы должны назвать
интуитивной философией, то ту среднюю классику, которая трактовала идею
в отрыве от материи, мы, очевидно, должны назвать философией рассудочного
характера или философией дискурсивной. И если указанные у нас выше
натурфилософы-интуитивисты относятся к VI — V вв., то уже в середине V в. с
большой силой сказалась именно эта средняя классика со своим преобладающим
дискурсивным методом. Она проявила себя в двух формах. В отрицательной форме
она на первый план ставила именно дискурсию, но такая исключительная дискурсия
очевидно разрушала цельную картину мира и вносила черты некоего рода
релятивизма. Это были так называемые софисты, и среди них прежде всего Протагор
(ок. 490 — 420) и Горгий (ок. 483 — 375).
2. Значение Сократа. Но одновременно с этим возникла также и
положительная дискурсия, а именно Сократ, который, исходя из относительности и
условности, даже случайности наших бытовых представлений, требовал признания
также и таких общих понятий, без которых не могли бы возникать и частичные,
условные и случайные понятия. И поскольку сократовская философия была началом
перехода от материи просто и от идеи просто к их диалектике, то обычно всю
философию до Сократа, и прежде всего натурфилософов-интуитивистов, так и
называют “досократиками” или досократовскими. Эти названия весьма
существенны и совершенно необходимы, поскольку именно с Сократа начинается то
положительное построение диалектики идеи и материи, которую выше мы установили
как существеннейшую и центральнейшую для всей античной философии. И поэтому,
как далеко ни ушла вперед античная философия после Сократа, тем не менее не
только само это имя осталось популярным в течение всего тысячелетнего
существования античной философии, но и по самому существу своему философия
Сократа осталась на все античные времена центральным достижением и по всему
содержанию античной философии, и по всему ее методу.
3. Сократики. Еще Сократ резко противопоставлялся софистам (при всем
его сходстве с ними), но в сократовских школах уже совсем невозможно отделить
софистическое от сократовского. И если угодно, в этом общем, изучаемом нами
сейчас антропологическом периоде вполне можно, во-первых, противопоставлять
софистов и Сократа, а во-вторых, диалектически синтезировать их в сократиках.
Это все вещи одного и того же порядка. Но только в общей свободомыслящей
философии самосознания софисты акцентировали чистую текучесть сознания, а
сократики — самые разные стороны. И все они делали в этом неимоверный акцент:
одни — в релятивизме, другие — в опоре на разумность, третьи — на разумность
той или другой из релятивных сфер. И все они, кроме того, имели прежде всего
опыт общей, примитивной процессуальности сознания, а не его конкретной
фигурности или сконструированности. Поэтому все они были весьма свободомыслящие,
одни — более практическими, другие — абстрактными.
А когда сократические школы стали дифференцироваться, то и среди них
появились аналогичные различия. Одни углубились в чувственную эмпирику
(киренаики), другие — в абстрактную и свободомыслящую автаркию (киники), третьи
соединили и то и другое (когда так называемые мегарики ушли в абстрактный мир
идей, соединяя с этим кинические тенденции).
Очень заметно это совмещение сократики и софистики в трех названных
сократических школах. Киник Антисфен, несомненно, подражал Горгию, как киренаик
Аристипп — Протагору. Да и Евклид, основатель мегарской школы, слишком близко
стоял к элеатскому рационализму и был слишком страстным диалектиком, чтобы не
войти ярким явлением в это общее софистически-сократовское свободомыслие.
Среди учеников Сократа особое место занимает Ксенофонт (середина V —
середина IV в.), который до того старался быть верным учеником Сократа, что
признавал решительно все его взгляды, однако с большой недооценкой всегдашнего
сократовского критицизма и с тенденцией превратить философию Сократа в
строжайшую систему догматов. Но это было уже переходом от средней классики к
зрелой классике.
§4. Зрелая классика
1. Платон и античная классика вообще. а) Если в окончательной форме
античная философия не сводилась ни на теорию материи просто, ни на теорию идеи
просто, а была диалектикой идеи и материи, причем такая диалектика возникала в
античности в каждом ее основном периоде, то, очевидно, и весь этот большой
период античной классики тоже необходимым образом должен был выработать не
только теорию материи и идеи, но и такую теорию, в которой то и другое
объединялось в единую диалектическую концепцию. При этом подобного рода
диалектика должна была обладать той спецификой, которая была характерна не для
каких-нибудь других периодов исторического развития, но именно для периода
классики. А мы уже знаем, что весь период античной философской классики
отличался по преимуществу своим объективизмом, когда мало обращалось внимания
на субъективный коррелят идеи и материи, но обращалось исключительное внимание
на объективную самостоятельность того и другого или на
объективно-субстанциальный характер того и другого. И, будучи объективной
субстанцией, такая идея и такая материя еще не изображались в виде
специфического переживания или в виде той или иной индивидуально человеческой
структуры. В период классики они всегда оставались абстрактно-всеобщими
категориями именно ввиду отсутствия интереса к построению конкретных и
единичных структур. Так и возникла теория Платона, этот замечательный
образец не ранней и не средней, но уже зрелой классики, основным
содержанием которой и явилась диалектика идеи и материи как
абстрактно-всеобщих категорий.
б) Однако все сказанное до сих пор о Платоне есть характеристика его как
представителя античной классики вообще, но не специально зрелого ее периода.
Платонизм есть прежде всего объективизм, но и вся досократовская философия тоже
есть учение об объективном характере утверждаемых здесь материальных элементов
— земли, воды, воздуха, огня и эфира. Те идеи, которые Платон устанавливает
наряду с материей, тоже существуют вполне самостоятельно и зависят сами от
себя, то есть являются субстанциями, как и в ранней классике признаваемые ею
основные материальные элементы тоже являются субстанциями. Свои объективно и
субстанциально существующие идеи Платон получает через доведение до предела
абстрактно-всеобщих категорий. Но то же самое необходимо сказать и о
материальных элементах, как они признаются и формулируются в ранней классике.
Наконец, платоновские идеи при всей их раздельности образуют собою единый и общий
чувственно-материальный космос. А такое же положение дела мы находим и в ранней
классике. В чем же разница между ранней и зрелой классикой? Эта разница
заключается лишь только в различной расстановке логического ударения в пределах
одной и той же объективно-субстанциальной и абстрактно-всеобщей системы
категорий. Если основным содержанием всей античной философии является
диалектика идеи и материи и если таковой же является античная классика (с
выдвижением на первый план объективной субстанциальности), то единственное
реально ощутимое различие этих двух историко-философских ступеней заключается
только в том, что ранняя классика базируется на непосредственно данной и потому
интуитивной материи (как того и требовал непосредственный характер
раннего рабовладения), в то время как принципом зрелой классики явилась отнюдь
не интуитивно данная материя, но систематически организующая эту интуитивную
материю формообразующая идея (как то и было необходимо для слишком
разросшегося и требовавшего для своего сохранения экстренных мер зрелого
рабовладельческого полиса) . При этом, если диалектика была в античной
философии повсюду, как и во всей классике, то в зрелой классике она получила
преимущественное и даже главенствующее положение. И вот почему зрелая классика
не просто интуитивна и не просто дискурсивна, но систематически
диалектична. Вот мы и подошли к тому, что можно назвать исторической
спецификой зрелого классического образа мышления и что является самой
существенной стороной философии Платона.
2. Диалектика Платона. Сам Платон весьма неохотно брался за
построение положительной и окончательной философской теории, а ограничивался
большей частью изображением только диалектического искания истины, часто
отказываясь от окончательных выводов. В смысле диалектического искания истины
диалоги Платона являются непревзойденным образцом во всей мировой литературе. И
тем не менее по крайней мере в двух своих диалогах, в «Тимее» и в «Филебе»,
Платон все-таки решился дать окончательную формулу для своего мировоззрения, и
формулу эту нельзя иначе назвать, как диалектикой именно категорий идеи и
материи.
а) В диалоге «Тимей» дается построение чувственно-материального космоса (а
иного космоса, как сказано выше, в античности вообще не знали) . Но построение
это сначала дается в виде учения об уме (31 b — 37 с), а затем выдвигается
учение о необходимости (47 е — 69 а), под которой ничего иного нельзя понимать,
как именно материю, хотя самый термин “материя” здесь пока
отсутствует. Этот ум, эта необходимость и возникающий из них
чувственно-материальный космос прямо так и формулированы в «Тимее»
(48 е — 49 а), в виде диалектической триады.
С другой стороны, в диалоге «Филеб» дается диалектика предела,
беспредельного и единства того и другого, под которым Платон понимает в первую
очередь число (16 с — 20 е). Беспредельное — это тот бесконечный и
неопределенный фон, на котором нужно начертить какую-нибудь фигуру, пользуясь,
очевидно, уже не только понятием беспредельного, но и понятием предела,
ограниченности. Только при таком условии фиксируемый нами предмет станет для
нас подлинной реальностью, о которой можно что-нибудь мыслить или говорить.
б) Эти два примера из весьма трудного и многословного текста Платона с
полной ясностью обнаруживают ту категорию методологии, которой пользовался
Платон при конструировании предмета знания. Очевидно, он пользовался в первую
очередь понятием материи как полной неопределенности и бесформенности, но тут
же привлекал и категорию идеи как чего-то определенного, оформленного и
ограниченного. Подробное исследование всего текста Платона доказывает
необходимость и центральную значимость для философии Платона диалектики идеи и
материи как абстрактно-всеобщих категорий. Это то, что мы с полным правом
должны назвать зрелой классикой античной философии.
в) Заметим, что чисто интуитивное привлечение таких досократовских
элементов, как земля, вода, воздух и огонь, является для Платона уже некоторого
рода примитивным эмпиризмом. Вместо этого он пользуется уже такой
абстрактно-всеобщей категорией, как необходимость или беспредельность. С другой
стороны, также и понятие идеи уже не отличается у него таким описательным
характером, как это было прежде всего у Гераклита. Его идея уже не
наивно-описательно, но с мыслительной необходимостью, а именно чисто
диалектически, объединяется с материей. Точно так же Платона мало устраивает и
дискурсивный характер средней классики, тоже ввиду слишком описательного
соотношения здесь идеи и материи. Платон хочет объединить досократовскую
интуицию ранней классики и дискурсивный метод средней классики. Зрительная
видимость и мыслительная рассудочность объединяются у него в нечто целое. И
хотя чувственно-материальный космос продолжает быть для него, как и для всей
античности, абсолютом, тем не менее он сразу хочет и обозревать его, и понимать
как логическую систему. Но это значит, что его философия уже не просто
интуитивная и не просто дискурсивная, но спекулятивная.
г) Обычно систему Платона именуют на этом основании идеализмом. Но термин
“идея” имеет множество разных значений и в античной философии, и в
другие историко-философские периоды, и даже у самого Платона. Для существенной
характеристики платонизма он так же неудобен, как и термин
“спекуляция”, и тоже ввиду разнообразных (и часто нефилософских)
значений этого термина. Более подходящим термином был бы такой термин, как
“эйдология” или “эйдологизм”, поскольку греческий термин
“эйдос” хотя и значит то же самое, что идея, но не вызывает никаких
ненаучных ассоциаций.
Итак, если по методу философия ранней классики есть интуитивизм, а средней
— дискурсионизм, то зрелая классика античной философии была ноуменальным
спекулятивизмом, или эйдологизмом, то есть не интуицией
чувственно-материального космоса и не дискурсией над ним, но его диалектикой.
§5. Поздняя классика
1. Дистинктивно-дескриптивный характер системы. Представителем
поздней классики является Аристотель (384 — 322). Поскольку Аристотель
так или иначе все же относится к античной классике, хотя и к ее последнему
этапу, его философская деятельность связана с прежними периодами античной
классики. Тем не менее его специфика чрезвычайно выразительна и состоит по
преимуществу в огромной склонности к детализации всей философской проблематики
и к подробнейшему описательству возникающих при этом тончайших терминологических
различений. Можно сказать, что платонизм зрелой классики получил здесь до
крайней степени развитой дистинктивно-дескриптивный характер. Этот
характер философской детализации заставлял Аристотеля часто отказываться от
всяких чересчур общих субстанциальных подходов и ограничиваться описанием
только единичных явлений.
2. Энтелехия. Однако буквально понимать Аристотеля в этом смысле
совершенно невозможно. Он не только не отрицает категориальной субстанциальности
общего, но, наоборот, считает научным только такое познание, которое умеет во
всем единичном находить общие принципы. Его не устраивает диалектика общих
категорий ввиду ее слишком большой общности и разъединенности. Тем не менее эти
общие принципы не только им признаются, но даже постоянно и привлекаются как
подлинная необходимость. Однако тут-то и выявляется сущность аристотелизма.
Именно, всякая общность только тогда имеет для Аристотеля значение, когда
она действует, становится, движется сама и приводит в движение материальные
вещи. Поэтому для Аристотеля важна не сама идея, но ее текуче-сущностное
становление, ее оформляющая сила, ее потенция, ее энергия и порождаемый ею
зрительно-смысловой облик вещи, который он называет “эйдосом”. В
таком целостно-порождающем виде потенция и энергия становятся для него тем, что
он называет энтелехией. Поэтому аристотелизм есть учение о
потенциально-энергийной и эйдетически порождающей энтелехии.
3. Две важнейшие формулы Аристотеля. а) В более популярной форме вся
эта концепция выражена им в виде четырех основных принципов: каждая вещь есть
материя, каждая вещь есть эйдос, каждая вещь выявляет свое причинное
происхождение и свое целевое назначение. Это есть уже не столько диалектика
вещи, сколько энергийно-смысловое ее оформление. Это относится, конечно, к миру
в целом, который движется, по Аристотелю, не чем иным, как умом-перводвигателем.
Из такой концепции Аристотеля явствует, что это есть не столько отрицание
платонизма, сколько перевод его с того пути, который мы назвали диалектикой
категорий, на путь, который мы теперь должны назвать потенциально-энергийной и
эйдетически оформляющей энтелехией. Попросту говоря, речь идет здесь не об идее
самой по себе, но об ее становлении.
б) Тут важен еще и другой, специально аристотелевский, термин — to ti en
einai. Здесь фиксируется прежде всего становление вещи (en), которое направлено
к тому, чтобы выразить бытие (einai) вещи. Значит, вещь есть в первую очередь
то, что “стало быть” или “становилось быть”. Но мало и
этого. Вещь должна стать не просто чем-нибудь вообще, но чем-нибудь вполне
определенным, определенным “что” (ti). И наконец, это
“нечто” ни в каком случае не может рассматриваться как просто только
эмпирический факт. Оно обязательно является также и выражением определенной
общности, что и дано при помощи артикля (to). И поэтому нечто, возникшее в
результате своего бытийного становления, не есть просто оно само, но еще и
некоторого рода “чтойность”. Поэтому указанный аристотелевский термин,
если гнаться за полной точностью, только и можно перевести как “ставшая
чтойность”. Это — буквальный перевод оригинального аристотелевского
термина, который сразу указывает и на то, что идея вещи есть ответ на вопрос,
что такое данная вещь, и на ту ее обобщенную значимость, без которой она вообще
теряла бы всякий смысл. Ведь если под “Иваном” мы не мыслим человека
вообще, то нельзя говорить ни о каком Иване как об индивидуальной личности.
в) У Аристотеля имеется одна грандиозная концепция, в которой две указанные
важнейшие формулы даны в законченном, максимально обобщенном, но в то же время
и в максимально конкретном виде. Это — учение об Уме-перводвигателе.
Всякая вещь есть нечто; и ответом на то, что такое это нечто, является
эйдос (односторонне и совершенно неправильно трактуемый по-русски как
“форма”). Этот эйдос вещи есть ее, как мы видели выше, материальная
причинно-целевая конструкция. Весь космос поэтому тоже есть грандиозный эйдос,
который является эйдосом всех эйдосов, то есть идеей всех идей. Такой
космический эйдос всех эйдосов Аристотель называет “умом”, а так как
всякий эйдос обязательно является также причинно-целевой энергией, то и
общекосмический ум трактуется у Аристотеля как перводвигатель.
Но этот Ум-перводвигатель есть не только общекосмическая энергия. Как
каждый эйдос в отношении своей вещи, так и Ум-перводвигатель в отношении
космоса есть нечто самостоятельное и от космоса не зависящее. Но с другой
стороны, как эйдос отдельной вещи неотделим от нее, так и космический
Ум-перводвигатель неотделим от самого космоса и в конце концов тождествен с ним.
Мало того, если эйдос каждой вещи есть то, что о ней существенно мыслится,
должен быть и тот, кто мыслит этот эйдос. Но космический Ум охватывает
решительно все: то есть все вещи; и, следовательно, нет никого и ничего, что
мыслило бы этот эйдос всех эйдосов. А это значит, что он мыслит сам себя. И
поэтому Аристотелю принадлежит замечательное учение о космическом Уме как
одновременно мыслящем и мыслимом. И здесь, конечно, торжествовала все та же
исконная концепция ранней классики, когда космос трактовался как живое и
самомыслящее существо. Но в ранней классике это тождество мыслящего и мыслимого
трактовалось только интуитивно и только описательно. У Аристотеля же это
мыслится понятийно и объяснительно.
И наконец, этот свой Ум-перводвигатель Аристотель трактует настолько
конкретно, что в нем самом имеется и материал, на котором он возникает, и та
идея, которая осмысливает и оформляет эту материальную сторону Ума. Ясно, что
этот Ум трактуется у Аристотеля как художественное целое, в котором все
материальное предельно осмысленно и достигло своего собственного предельно
данного оформления. Аристотель так и учит об “умопостигаемой
материи”. Это не какая-нибудь причуда или фантастика прихотливо
мыслящего философа, но результат художественного понимания космического Ума.
Ум-перводвигатель, как и всякий эйдос вообще, обязательно материален, хотя
материален не в чувственном, но в умственном смысле слова, и не просто
материален, но оформлен в предельно совершенном виде. Космический Ум Аристотеля
художественно фигурен.
Вся эта концепция Ума-перводвигателя у Аристотеля является окончательно
обобщающим синтезом его учений об эйдосе и материи, потенции и энергии, об
энтелехии, а также и вообще о предмете знания и о субъекте знания.
Итак, поздняя античная классика, возникшая на почве
дистинктивно-дескриптивной эволюции диалектики категорий зрелой классики, есть
не что иное, как учение о детализированной энергийности идеи, переставшей быть
просто только абстрактно-всеобщей категорией, но данной в виде оформляющего
становления для всего прочего и поэтому в виде самостоятельного и художественно
оформленного принципа.
4. Точная историко-философская формула. Установление подобной формулы
для таких мыслителей, как Аристотель, особенно важно и необходимо ввиду
чрезвычайной сложности и запутанности дошедших до нас аристотелевских
материалов. Эти материалы иной раз до такой степени разнообразны, несовершенны
и даже хаотичны, что у многих исследователей уже давно установился взгляд на
сочинения Аристотеля как на такие, которые написаны вовсе не им самим, но его
многочисленными учениками и даже просто слушателями. Само собой разумеется, что
выдвижение какой-нибудь формы аристотелизма в качестве основной, конечно,
является делом весьма рискованным, в той или иной степени односторонним и кое в
чем даже спорным. Но по-другому поступить нельзя. Иначе придется просто
изложить очень длинный список бессвязных теорий, о точной внутренней связи
которых остается только бесконечно спорить. Эта центральная формула
аристотелизма представляется нам в следующем виде.
То, что основой всего является у Аристотеля чувственно-материальный космос,
это остается непоколебимым, как и во всей античной философии. То, что этот
космос рассматривается как объективная субстанция, в этом у него нет никакой
разницы со всей ранней и со всей зрелой классикой. Абстрактно-всеобщий характер
анализируемых у него категорий тоже остается незыблемым. Даже и существование
платоновских идей, объективных и субстанциальных, Аристотель в основном не
отрицает, поскольку его Ум-перводвигатель и является не чем иным, как вечно
неподвижным царством идей; и энергично, настойчиво и красиво утверждаемый им
общемировой и надмировой Ум-перводвигатель, по его же собственному выражению,
является не чем иным, как “идеей идей”. Но в чем же тогда дело? И в
чем же тогда подлинное и окончательное отличие Аристотеля от Платона?
Выше у нас уже было указано на этот основной момент, который сейчас мы
хотели бы выдвинуть в качестве центрального и специфического для Аристотеля. Он
заключается в том, что вечная идея не просто является чем-то неподвижным и
недеятельным, но все время находится в действии, в становлении, в творчестве, в
жизненном искании, в преследовании тех или иных, но всегда определенных, целей.
При этом подобного рода становление идеи, по Аристотелю, нисколько не мешает ее
идеальности, ее общности, ее предельности, ее несводимости на материю. По
Аристотелю, существует не только физическое становление, но и смысловое
становление, текуче-сущностное становление. Простейшим примером и образцом
такого смыслового и вовсе не чувственного становления является, по Аристотелю,
натуральный ряд чисел, в котором каждое число обязательно предполагает и числа
меньшие, чем оно, и числа большие, чем оно, причем это требование одними
числами других чисел и есть требование не физическое, не психологическое, но
только требование по смыслу. Это — вполне умопостигаемое движение и требование,
то есть движение и требование внутри самого же вполне умопостигаемого и
физически неподвижного ума.
Обычно думают так, что вещь существует сама по себе, а идея вещи сама по
себе. Этого дуализма Аристотель просто не выносит; и если у Платона где-нибудь
и были намеки на такой дуализм, то Аристотель в этом смысле порывает даже с
самим Платоном.
Однако имеет ли смысл такой дуализм вещи и идеи вещи? Такой дуализм имеет
смысл только в качестве самого первого и самого элементарного пункта
сопоставления вещи и идеи. Конечно, воздух бывает теплым или холодным, но идея
воздуха не может быть ни теплой, ни холодной. И тем не менее воздух, как и все
вещественное, находится в постоянном становлении, и это становление всегда
оценивается нами как такое. Если в нем развивается какая-нибудь непрерывность,
то ведь и эта непрерывность тоже есть не что иное, как она сама, то есть
содержит в себе ту или иную вполне прерывную идею. Поэтому физическое становление
не только нельзя противопоставлять идее, но и само оно возможно только как,
во-первых, становление вообще, а во-вторых, как становление данной вещи.
Другими словами, существует и не может не существовать еще и
текуче-сущностное становление, которое как раз и является сущностью того,
что обычно называют физическим или материальным становлением.
По мнению Аристотеля, Платон строил диалектику идей на основе их
категориального противопоставления. В качестве категорий эти идеи и на самом
деле как противопоставляются, так и диалектически объединяются. Но этого мало.
Они, кроме того, еще и вливаются одна в другую, превращаются одна в другую,
категориально исчезают одна в другой и возрождаются одна в другой в неузнанном
виде.
Вот это текуче-сущностное становление идеи, которое в античности,
конечно, никогда принципиально не отрицалось, оно и стало центральным принципом
всей аристотелевской философии. Да и сам Аристотель дал вполне отчетливую
формулу для такого существенного характера его философии. Именно, как мы
говорили выше, Аристотель учил о так называемой энтелехии, которая есть
не что иное, как потенциально-энергийное и притом эйдетическое становление всего
существующего. И это было не только следствием общего
дистинктивно-дескриптивного характера его философии. Это было как раз тем, что,
с одной стороны, связывало его с ноуменализмом Платона и что связывало его, как
мы сейчас увидим, и с веком эллинизма. Принцип энтелехии уже исчерпывал собою
все основное содержание античной классики, поскольку объективная
субстанциальность получала здесь свою окончательную форму, а именно форму
абстрактно-всеобщего становления категорий. Дальше уже наступало время не
просто объективизма, не просто субстанциализма, но и не просто
абстрактно-всеобщего сопоставления и взаимопроникновения логических категорий.
К этому периоду, а именно к эллинизму, мы сейчас и перейдем.
РАННИЙ И СРЕДНИЙ ЭЛЛИНИЗМ
ЧУВСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС КАК ОБЪЕКТ
§1. Ранний эллинизм
1. Общий характер раннего эллинизма. а) За периодом классики, или
классического эллинства, в античности последовал период послеклассический, уже
не эллинский, но эллинистический, период субъективного индивидуализма,
но не в новоевропейском смысле слова, когда вообще часто торжествовала линия
абсолютизации человеческого субъекта. Никакой такой абсолютизации человеческого
субъекта никогда в античности не было в течение всего ее тысячелетнего
существования.
б) Однако в эпоху эллинизма возникла потребность трактовать
чувственно-материальный космос не просто как только объект, но и как
субъективную человеческую данность, без всякого, даже малейшего, нарушения
объективности самого космоса Здесь возникали такие системы философии, которые
ставили и решали вопрос о типах и видах субъективного человеческого
существования на фоне существования чувственно-материального космоса, но без
малейших сомнений в существовании этого последнего. Не надо забывать то, что
сказано было у нас выше по вопросу о внеличностном характере античной
философии. Этот внеличностный характер целиком оставался нетронутым и во все
века античного эллинизма, и поэтому субъективно-человеческие и
субъективно-индивидуальные интересы философии данного периода нисколько не
нарушали общеантичного внеличностно-объективного и чувственно-материального
космоса как абсолюта.
в) Представляется весьма нелегкой задачей вскрыть специфику античного
субъективизма без нарушения общеантичной картины чувственно-материального
космоса. Мы полагаем, что было бы весьма целесообразно пользоваться в
характеристике эллинистического субъективизма одним термином, заимствованным,
правда, из новой и новейшей европейской философии, но при соблюдении
определенных условий весьма удачно рисующим эллинистическую специфику. Этот
термин — иррелевантность, указывающий на такой смысл вещи, который
нейтрален к ее реальному существованию.
г) Обывательское сознание всегда думает, что вещи либо существуют, либо не
существуют. На самом же деле вещи настолько непрерывно текут, что иной раз
становится трудным даже просто замечать их раздельное существование. Но даже
когда вещи и отличаются одна от другой более или менее заметным образом, все же
более пристальный взгляд всегда натыкается на их непрерывную текучесть и даже
на их взаимный переход. Поэтому говорить, что этого сплошного текучего
становления вовсе не нужно отмечать в терминологии, все же никак не возможно.
Несомненно, существует такая значимость вещи, которая выше и дальше самой
вещи и о которой совершенно нельзя сказать, существует она или не существует.
Вещь имеет значение, и потому такое значение вещественно. Но вещественно оно
только по своему содержанию, а не принципиально. Огонь жжется и ожигает. Но
значение огня, или его смысловая идея, и не жжется, и не ожигает.
Поэтому когда в эпоху эллинизма возник вопрос о существе человеческого
субъекта и его специфическом отличии от объективного мира, то стали обращать
внимание как раз на такие формы человеческого сознания, в которых выступала не
просто сама чувственная значимость вещей, но значимость чисто смысловая, чисто
идейная, которая, конечно, всегда применяется к чувственности, но сама вовсе не
есть чувственность и в смысле своего бытия не имеет с ней ничего общего, кроме
своего из нее происхождения Таблица умножения тоже ведь имеет свое вполне
эмпирическое происхождение. И тем не менее в ней мы не говорим ни о каких
вещах, ни об орехах или яблоках, ни о комнатах или домах, ни об улицах или
городах. Таблицу умножения мы применяем где угодно, но она не имеет никакого
отношения к характеру тех вещей, к которым она применяется.
д) Само собой разумеется, что в античной философии такие иррелевантные
структуры, конечно, ни на одно мгновение не получали самостоятельного значения,
а всегда применялись к вещам чувственно-материального космоса и к самому
чувственно-материальному космосу. При этом иррелевантный момент, отнесенный к
реально объективному или к реально субъективному миру, всегда вносил свою долю
специфики, незнакомой во времена античной классики. В дальнейшем мы увидим те
новости объективного и субъективного мира, которых не знала классика и на которых
базировался эллинизм. Сейчас же пока важно не заблудиться среди трех сосен и
важно понять социально-историческую направленность эллинистической
иррелевантности.
Эллинизм требовал охраны внутренней жизни субъекта, отошедшего от прямого и
непосредственного участия в творчестве, в общественно-государственной жизни. А
для этого необходимо было убедиться также и в том, что человеческий субъект
имеет на это полное право и может создавать такие формы мышления, которые были
неизвестны в период прямого и непосредственного рабовладения. Этот оригинальный
момент и стали находить в иррелевантных формах сознания, и, конечно, отнюдь не
для отрицания объективного мира, но именно для его признания, и даже больше
того, для защиты субъекта от мирового разрастания общественно-государственной
жизни.
Здесь необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, эллинистический
субъективизм хотел всячески противопоставить себя объективизму периода
классики. Однако это противопоставление здесь ни в коем случае не понималось
как исключение объективистического метода мышления. Возникла потребность
создать такую противоположность объективизму, которая сама по себе ни с какой
стороны не претендовала исключать объективистическую философию и ставить на ее
место какой-то еще новый абсолют. Этим абсолютом был и оставался во все времена
античности только чувственно-материальный космос, и ничто другое.
Но иррелевантность, во-вторых, как раз и была такой противоположностью
объективизма, которая сама не претендовала ни на объективность, ни на субъективность.
Яблоко можно сорвать с дерева, но идею яблока, ввиду ее иррелевантности, нельзя
сорвать с дерева. Яблоко можно разрезать на куски, его можно сварить, испечь
или съесть в сыром виде. Но идею яблока нельзя ни разрезать на куски, ни
сварить, ни испечь и ни съесть. Это заставляет нас идею вещи понимать не просто
как вещь. И когда мы употребляем термин “иррелевантность”, то под ним
мы понимаем невещественный смысл всякой вещи.
Таким образом, иррелевантность вещи есть совокупность всех ее смысловых
моментов, всех невещественно-значащих и в бытийном смысле совершенно
нейтральных смысловых моментов вещи. По своему реальному происхождению всякая
иррелевантность вещи, конечно, вполне вещественна, и, кроме вещи, ей совершенно
неоткуда взяться. И тем не менее, взятая в чистом, прямом и непосредственном
смысле слова, она ровно ничего вещественного в себе не содержит (воду можно
пить, но идею воды нельзя пить), хотя в то же самое время она и не есть только
человеческая субъективность, поскольку она в бытийном смысле всегда обязательно
нейтральна.
Вот за эту иррелевантную нейтральность и ухватился эллинизм, отходя тем
самым от глобального объективизма и будучи способным стать исходным методом как
для объективистической философии, так и для всякого рода субъективистической
методики без какого-либо намека на фактический отход от объективизма.
е) Это отчетливо видно не только на стоицизме и эпикуреизме, этих новых
философских системах раннего эллинизма, но даже и на скептицизме, который тоже
вовсе не отрицал существования чувственно-материального космоса, а только
доказывал, что для спокойствия и безмятежности человеческого духа надо
отказаться от всяких вообще положительных и отрицательных взглядов в области
любых утверждений или отрицаний. Стоицизм был не чем иным, как субъективной
разновидностью досократовской теории материальных элементов, и прежде всего
огня. Эпикуреизм был не чем иным, как субъективной разновидностью философии
Демокрита. А скептицизм был не чем иным, как продуманной до конца философией
непрерывной и нерасчлененной текучести Гераклита.
2. Точная историко-философская формула раннего эллинизма. Напомним
еще раз, что все такого рода точные формулы можно делать только в результате
весьма тщательного подбора научных материалов, оставляя в стороне бесчисленное
количество других материалов, иной раз тоже весьма важных, но требующих для
своего учета применения каждый раз тех или иных специфических точек зрения,
тоже весьма многочисленных. Поэтому все такого рода точные историко-философские
формулы по необходимости имеют для нас только рабочее и потому только
относительное, условное и временное значение. Таких разных подходов будет много
и должно быть много. Отвлекаясь от них и стремясь не к окончательному, но к
предварительному выводу, мы должны сказать обо всем раннем эллинизме следующее.
Для периода раннеэллинистической философии исходным принципом необходимо считать
чисто смысловую, не бытийно, но только значаще смысловую предметность,
для которой всякое “быть” имеет только один смысл, а именно
“значить”. Такого рода иррелевантность приводит к соответствующей
картине как объективного чувственно-материального космоса, так и специфического
состояния и назначения самого же человеческого субъекта.
3. Стоицизм. Это направление античной философской мысли
просуществовало много веков, начиная с III в. до н. э. и кончая II — III вв. н.
э., правда подвергаясь разного рода нестоическим философским влияниям. Сейчас у
нас идет речь о раннем стоицизме, который развивался в века раннего эллинизма и
главными представителями которого были Зенон Китионский, Клеанф из Асса в
Троаде и Хрисипп из Сол в Киликии. Обычно этих философов, как и весь стоицизм,
сводят только на нравственное учение, в то время как нравственная философия
была в античности во все времена и никогда не прекращала своего существования.
Сущность стоицизма заключается совсем в другом.
а) Стараясь формулировать наибольшие отличия человеческого субъекта в
сравнении с общеантичным объективизмом, стоики находили эти отличия не просто в
субъекте как таковом, поскольку он тоже существовал, то есть в некотором смысле
тоже был объектом, и не в истинности или ложности, поскольку подобного рода
характеристики всегда применялись и к объективному миру. Наибольшую
оригинальность стоики находили здесь в человеческом слове, и даже не в цельном
слове, включая всю физическую и психологическую оболочку смысловой значимости
слова, но в самой этой смысловой значимости слова, в смысловой
предметности высказывания, или, как тогда говорили, в словесном
“лектон”. Такое лектон не характеризовалось ни как нечто физическое
или психическое, ни как нечто существующее или несуществующее и даже ни как
истинное или ложное, поскольку во всех этих случаях оно оставалось тем же самым.
Так, по Аристотелю, суждение может быть либо утвердительным, либо отрицательным.
Значит, думали стоики, само суждение выше утверждения или отрицания, и
определение его сущности можно схватить только через лектон.
В этом отношении лектон было выше всякой оценки и считалось безоценочным и
ко всему безразличным, или нейтральным (adiaphora). В сравнении с этим не
только идеи Платона и Аристотеля, но даже и атомы Демокрита были чем-то
чересчур объективным и чересчур далеким от самой сущности человеческого
мышления.
б) Но все время находиться на почве такой смысловой иррелевантности стоики,
конечно, не могли, оставаясь верными общеантичному объективизму. Из этого
иррелевантного лектон тотчас же делались объективные выводы. И так как лектон
само по себе не существовало, а только осмысливало, то в объективном мире
стоики и нашли такую категорию, когда лектон не просто существует, но
осмысливает существующее. Это был организм, в котором сущность разлита
по всем членам и органам, но не существует от них отдельно. Исходное бытие
стало толковаться как огненное дыхание (pneyma), поскольку огонь по
давнишней античной традиции продолжал считаться основным элементом, но был при
этом живым существом, организмом и, значит, должен был дышать. Кроме того, это
исходное огненное дыхание в своей последней сущности было не чем иным, как
“интеллектуальным телом”, которое в виде иерархической лестницы было
распространено по всему космосу. Отдельно действующими элементами здесь уже не
могли быть ни досократовские элементы, ни идеи Платона и Аристотеля, но
“семенные логосы”, представлявшие собою одновременно и элементарные
организмы, и смысловым образом оформляющее их лектон.
в) При таком тождестве физического элемента и лектон все существующее так и
превращалось у стоиков в художественное произведение; изначальный огонь
носил название “художественного (tech-nicon) огня”, природа
трактовалась как всеобщий “художник”, а человек тоже должен был
идеальным образом воплощать в себе свою идеальную сущность, отказавшись от
хаотического расслоения жизни и погрузившись в полное отсутствие всяких
волнений (ataraxia).
г) Наконец, стоики явились небывалыми во всей античности новаторами в том
отношении, что стали проповедовать, с одной стороны, провидение,
поскольку их огненная пневма, как человечески-творческий принцип, преднамеренно
содержала в своем сознании и мышлении все существующее, а во-вторых,
фатализм, и уже не как наивную веру в судьбу, но как философскую
категорию судьбы, поскольку лектон, которое вначале было только чисто смысловой
предметностью, могло объяснять собою только смысловую же структуру организма,
но не судьбу организма в целом.
д) В результате всего этого необходимо сказать, что стоицизм был
торжественной и величественной картиной объективного мира, в нем выставлялись
на первый план не просто материальные элементы, как в ранней классике, и даже
не диалектика логических категорий (как у Платона) или творческое становление
идеально осмысленного мироздания (как у Аристотеля). На первый план выдвигался
живой и трепещущий организм, неизменно творческий и интимно настроенный,
живущий своей внутренней жизнью на фоне никому не известных и космически
необходимых решений судьбы.
Из этого видно, как многими иссследователями мало и плохо понимался
стоический аллегоризм, которому, конечно, не могло не отводиться большое
место, поскольку у стоиков этот термин был одной из основных категорий. Однако
он часто сознавался слишком внешне, слишком условно и метафорично, а в
действительности это был величественный символизм на основе понимания космоса
как живого организма, намеренно и сознательно созданного, но бессильного перед
неумолимой стихией космической или, лучше сказать, сверхкосмической судьбы.
Перед лицом надвигавшейся громады военно-монархических мировых организаций
эпохи эллинизма надо было обеспечить для личности ее безопасное существование.
И стоицизм очень многого в этом добился своим учением об атараксии. Однако ясно
также и то, что подобного рода личная безопасность тогдашнего индивидуума
достигалась далеко не в окончательном виде. Этот суровый стоический ригоризм в
дальнейшем уступал свое место более мягким формам индивидуального существования.
Но, как мы сейчас увидим, они тоже оказались недостаточными и тоже стали быстро
уступать свое место еще более мягким формам индивидуализма.
4. Точная историко-философская формула раннего античного стоицизма.
Здесь необходимо сказать, что термин “иррелевантность” может
показаться особенно далеким от изучаемой ступени античности. Но непонимание
данного термина является чистейшим недоразумением. Когда древнего стоика рисуют
как человека, не подверженного никаким страстям и никаким внешним влияниям, и
когда находят в нем только одну твердокаменную волю, то обыкновенно все
прекрасно понимают, что это значит. А ведь эта “апатия”, то есть
полное бесстрастие, и есть не что иное, как моральная иррелевантность. Но если
такая иррелевантность понятна в одной, а именно моралистической, человеческой
области, почему же нам вдруг она кажется непонятной в применении к другим, тоже
вполне человеческим областям мысли и жизни? Та иррелевантность, которую мы
находим у древних стоиков, отличается от традиционного понимания стоического
морализма только своим более общим характером. Но ведь уже для всякой частности
должна же существовать своя общность, без которой она непредставима. Если
непонятно, что “Иван” есть человек, то нужно считать непонятным и
бессмысленным также и понимание Ивана как индивидуальным образом данной
человеческой общности. Исходя из простоты и понятности термина
“иррелевантность”, мы можем сказать следующее.
Для периода раннестоической философии исходным принципом необходимо считать
чисто смысловую, не бытийно, но только значаще смысловую предметность,
как это мы понимали и при оценке античного эллинизма вообще. Стоики исходили из
человечески-словесной иррелевантности, когда образцом и принципом всякой
иррелевантности считалось смысловое значение слова в отличие от его физической
оболочки, психического содержания и коммуникативной направленности. Эта
человечески-словесная иррелевантность создавала в чувственно-материальном
космосе провиденциально-фаталистическую сферу всеобщего, символически
выраженного и иерархически построенного организма, живого, трепетного,
всегда творческого, интимно-ощутимого, но направляемого надчеловеческой
судьбой. Здесь везде необходимо помнить, что стоиком всегда руководила
мысль о человеческом слове, которое не сводится на звуки и переживания, а
является для них символом, однако столь же органически живым, столь же
зависимым от воли человека и столь же не зависимым ни от какой его воли, как и
все субъективно человеческое.
Что же касается характеристики специально-субъективной жизни человека, то
подобного рода человечески-словесная иррелевантность создавала у стоиков
непоколебимую и бесстрастную атараксию, которая ярче всего сказалась в
общеизвестном и названном нами выше иррелевантным морализме апатии. Этот
морализм не был у стоиков обыкновенным созданием природы, каким он был у
древних героев, у Ахилла или Гектора. В эпоху эллинизма этот морализм не был
даром природы, но результатом активно-субъективного самовоспитания. Упомянутая
атараксия и проповедовалась у стоиков как результат человеческого
самовоспитания. Это была тоже иррелевантность, но на этот раз созданная
специальными человеческими усилиями, подобно тому как и общий принцип
иррелевантности тоже трактовался у стоиков как результат автономного развития
человеческой речи и мысли.
5. Эпикуреизм. Другое главное философское направление раннего
эллинизма — это эпикуреизм, которому, как и стоицизму, тоже никогда не везло в
смысле его адекватного понимания. Как стоицизм обыкновенно сводили на мораль,
причем самую бесчеловечную и твердокаменную, лишенную всяких живых и вечно
подвижных ощущений, точно так же и эпикуреизм всегда была тенденция сводить на
теорию ничем не сдерживаемого наслаждения с игнорированием всех других
способностей человеческого духа. На самом же деле наслаждение, о котором учили
древние эпикурейцы, было весьма умеренным и сдержанным настроением души, полным
благородного спокойствия и умозрительной уравновешенности. Искажение античного
эпикурейства возникало потому, что не учитывался лежащий в его глубине момент
духовной специфики, противопоставлявший себя, как и стоицизм, строгому
объективизму всей классики, и, конечно, не для устранения этого последнего, но
только для его углубления.
а) Эпикурейский первопринцип не был стоическим лектон, но, взятый сам по
себе и в чистом виде, тоже отличался чертами некоторой иррелевантности, то есть
свободы от всяких бытийных утверждений. Этот исходный эпикурейский момент
прежде всего утверждал ненужность и бесполезность всякого доказательства,
требовал аксиоматизма, поскольку все доказуемое требует той или иной
исходной и самоочевидной аксиоматичности, необходимой для всякого
доказательства. Эта аксиоматичность эпикурейского первопринципа обязательно
приводила и к соответствующей ощутимости, без которой тоже не могло
существовать ничто ощутимое.
Это не значит, что ощутимость всегда сводилась только на чувственные
ощущения. Атомы Демокрита и Эпикура не только были ощутимы, но даже всегда
обладали определенной геометрической формой. И тем не менее они были вполне
ощутимы только умозрительно. Наконец, этот эпикурейский первопринцип
аксиоматической ощутимости требовал для себя и своего собственного бытия, но
уже не в том вульгарно-бытовом смысле, который обыкновенно имеется у людей в их
суждениях о существовании вещей.
б) Именно, эта аксиоматически ощутимая предметность ни на чем другом у
эпикурейцев не основывалась, как только на самой же себе, обладая всеми своими
функциями не только фактически, но уже и по самой своей природе.
Так, все делимо до бесконечности, но если бы существовала только одна такая
бесконечная делимость, она превратилась бы в непрерывный поток неизвестно чего.
Значит, в этом непрерывном потоке необходимо фиксировать прерывные точки. Но
каждая такая прерывная точка бесконечного непрерывного процесса убывания и есть
то, что атомисты называли атомами, которые и были первичной
бытийственной аналогией упомянутой аксиоматической и вполне непосредственной
ощутимости.
Такой же аналогией были и эйдолы, истекавшие из неделимых и
неподвижных (по своей сущности) атомов. Как атомы, они были вполне умозрительны,
а не ощутимы чувственно. И тем не менее, из их комбинаций и создавалась вся
чувственная картина космоса, как того и требовал исходный аксиоматически
ощутимый момент.
Но, по Эпикуру (в отличие от Демокрита), даже и сами атомы, то есть атомы,
взятые сами по себе, без своих эйдолов, тоже могли менять направление своего
движения, поскольку первопринцип требовал такого бытия, функции которого не
отличались бы от природы этого бытия.
И наконец, такой же аксиоматически ощутимой онтологией были и боги, в
которых не было ничего, кроме атомов; но эти атомы уже обладали всеми теми
функциями, которые были заложены в самой природе богов. Поэтому эпикурейские
боги ни в чем не нуждались, имея в себе все то, чего требовала их природа и что
было для них необходимо и достаточно. У эпикурейцев это был не атеизм, но деизм,
отрицавший взаимодействие богов и космоса, то есть осуществлявший собою как раз
иррелевантную структуру всякого признаваемого здесь бытия.
в) Так как под иррелевантностью обычно понимается только такое бытие,
которое изолировано от всего прочего, ни в чем не нуждается и вообще никакими
свойствами не обладает, кроме смысловой значимости, то подобного рода
иррелевантность для эпикурейцев отрицают еще в большей степени, чем для
стоиков. Это основано на недоразумении.
И стоический, и эпикурейский мудрецы только сосредоточены в себе и ровно ни
от чего постороннего не зависят. Таковы же и эпикурейские боги, которые
настолько углублены в себя и настолько в себе сосредоточены, что всякое
соприкосновение их с внешним миром нарушило бы их покой и лишило бы их
присущего им нерушимого блаженства. Поэтому ни они не воздействуют на мир, ни
мир не может воздействовать на них. И в этом смысле уже никакой знаток
эпикурейства, если он хочет базироваться на букве и духе античных
первоисточников, не посмеет отрицать эпикурейский принцип иррелевантности. Как
термин “иррелевантность” есть только перевод греческого термина у
стоиков (adiaphoros), так и эпикурейское учение об абсолютной свободе
удовольствия и о его независимости от каких-либо обстоятельств жизни тоже есть
не что иное, как субъективно-абсолютизированный принцип иррелевантности. Ведь
если таковы уже и сами боги, то ясно, что подобного рода религиозно-философская
система должна содержать иррелевантный принцип в самой своей глубине.
Стоический мудрец, выработавший в себе стойкость, тоже не подвержен никаким
посторонним влияниям, тоже сосредоточен в себе и в полном смысле слова
иррелевантен в отношении всего окружающего его бытия. Поэтому, кто отрицает
иррелевантность самого первопринципа раннего эллинизма, тот попросту отвергает
и считает несущественным стоическое учение о мудреце. И стоицизм, и эпикуреизм,
и, как мы увидим в дальнейшем, весь скептицизм раннеэллинистической античности
основаны на этом первопринципе иррелевантности, хотя он и понимался здесь
по-разному. У стоиков это была чисто смысловая предметность слова. У
эпикурейцев же она включала в себя еще и свое собственное бытие. Но вместе с
этим вполне ощутимым бытием эпикурейский момент иррелевантности все же
трактовался изолированно от всего прочего и тоже завершался иррелевантной
характеристикой как человеческого и космического, так и божественного бытия.
г) И социально-историческая необходимость такой иррелевантности тоже
должна быть ясна всякому исследователю, который захотел бы полностью учесть
стремление античного эллинистического человека защитить себя перед надвигавшейся
громадой мировых военно-монархических организаций. Испытывалась неодолимая
потребность уйти в себя и сохранять свой внутренний покой наперекор
катастрофическим мировым событиям. И это стремление эллинистического субъекта
сохранить себя самого в нетронутом виде и продиктовало эту совсем неклассическую
склонность создавать для себя те или другие формы духовной иррелевантности,
которые и были не чем иным, как только субъективным коррелятом всесильного и
теперь уже мирового универсализма. Кто не понимает иррелевантного первопринципа
раннего эллинизма, тот просто отрицает значение возникшей в те времена ступени
рабовладельческой формации.
д) И вот только теперь мы можем понять, что такое то наслаждение, которое
проповедовалось Эпикуром. Ясно, что оно было вполне естественным требованием
человеческой природы, аксиоматической и вполне непосредственной ощутимостью и
что дело здесь не в самом удовольствии и не в его блаженно-спокойной структуре,
но в том аксиоматически ощутимом первопринципе, который был выше и самого
удовольствия, и его структуры и который рассчитывал только на соответствие
специфике человеческой природы в отличие от надсубъективного и исключительно
только объективного субстанциализма античной классики.
е) В этом только и можно находить особенность раннеэллинистического
эпикуреизма, без которой вся эта эпикурейская философия становится вовсе не
античной, но вполне пошлой проповедью элементарного бытового удовольствия, не
знающего ни своего смысла, ни своей благородной сдержанности и упорядоченности
и лишенного самых малейших намеков на античную скульптурную созерцательность.
При таком опошлении эпикурейства невозможно вообразить, почему атомисты
представляли себе трагедию и комедию как возникшую из букв, а под буквами в
данном случае они понимали атомы. Точно так же без указанного нами
эпикурейского первопринципа делается непонятной эпикурейская проповедь высшей
морали как умиротворения страстей и как умозрительного благородства человека,
освободившего себя от всех мелочей жизни.
Что на высоте такого благородства эпикуреизм не мог продержаться до конца,
это ясно; и что за многовековое его существование (эпикурейцы оставались еще во
II в. н. э.) эпикурейство много раз и коренным образом менялось, это нисколько
не мешает нам признавать указанный его начальный первопринцип, а скорее,
наоборот, делает его необходимым. Нечего говорить и о том, что врагов такого
эпикурейства всегда было очень много и они принимали всевозможные меры для
унижения личности Эпикура и для сведения ее только на бесконечные страсти и
пороки. По-человечески все это естественно.
ж) В заключение этого раздела об античном эпикурействе невозможно не
упомянуть именно великого римского эпикурейца I в. до н. э. Лукреция,
поэма которого «О природе вещей» получила заслуженную мировую известность и в
которой основные учения эпикурейства изложены не только в небывало
художественном, но и в своем окончательном виде, поскольку Лукреция необходимо
относить уже к самому концу раннего эллинизма. У него можно отметить следующие
три идеи.
Во-первых, у Лукреция в самой яркой форме проводится удивительное
общеэпикурейское учение, ниспровергающее всякий религиозный культ, но в то же
самое время, и притом тоже в самой резкой форме, признающее существование богов.
Эти боги не только признаются Лукрецием, но он буквально на них любуется, и
даже, можно сказать, не только любуется на своих богов, но и весьма выразительно
пользуется ими для характеристики своих натурфилософских взглядов. Это едва ли
сказка или басня и едва ли только поэтическое украшение. Это — самая подлинная
философская мифология, что, несомненно, обнаруживает полную ошибочность
понимания эпикурейства как чистейшего атеизма.
Во-вторых, эпикурейство в лице Лукреция, несомненно, приходит к
уничтожающей самокритике. Человек здесь уже далек от прежнего спокойного и
благородного эстетического самосозерцания. Он видит свою ничтожность перед
бесконечно могущественной и самовольной природой и не знает, куда деться от
слез и отчаяния. Это есть, конечно, беспощадная самокритика уходящего
эпикурейства.
И наконец, в-третьих, этого отчаявшегося и плачущего человека утешает у
Лукреция олицетворенная природа. И чем же она утешает? Она его утешает тем, что
он рассыплется на атомы, умрет и что потому все его страдания временны. Этому
посвящено у Лукреция огромное рассуждение (III 870 — 1095). Здесь необходимо
находить замечательный образец самокритики одного из могущественных направлений
раннего эллинизма, да и всей античности. И художественная сила в изображении
эпикурейца, уже сделавшего все выводы из своего эпикурейского мировоззрения,
какие только возможны, достигает такой степени, что вся эта поэма полноценно
звучит еще и в настоящее время.
6. Точная историко-философская формула эллинистического эпикуреизма.
То, что этот эпикуреизм основан на иррелевантном принципе, это мы сейчас
считаем доказанным. Поэтому, как и в отношении стоиков, об основном философском методе эпикуреизма тоже необходимо
сказать, что он есть не что иное, как чисто смысловая, не бытийно, но только
значаще смысловая предметность, однако здесь у эпикурейцев была также и своя
специфика. Именно, эпикурейцы исходили не из чисто словесной предметности, как
это было у стоиков, но предметность эта сохраняла также и свою собственную
бытийность, то есть не бытийность всяких других предметов, которая нарушила
бы его иррелевантную природу, но свою собственную бытийность, которая была
тождественна со всей смысловой значимостью переживаемого предмета. В
эпикурействе возникла аксиоматическая ощутимость такого идейного смысла,
который в то же самое время был и идейным бытием. Поэтому когда у эпикурейцев
возникла речь о человеческом субъекте, то он трактовался не просто как мыслящая
предметность, которая существовала во всяком осмысленном человеческом слове, но
как осуществленная смысловая предметность, как живая и общепереживателъная
ощутимость. На языке эпикурейцев это означало, что в самой основе
человеческой жизни заложен принцип удовольствия. Но это такой принцип, который
в своей завершенной форме, когда он становился удовольствием или
внутреннеэстетическим самонаслаждением, все равно оставался недоступным ни для
какого внешнего воздействия или, тем более, для каких-нибудь существенных помех.
Это было глубочайшим образом успокоенное самонаслаждение, которое настолько ни
от чего иного не зависело, что его иначе и нельзя понимать как только в виде
осуществления и завершения исходной общепереживательной иррелевантности.
Разница со стоицизмом была по преимуществу только в том, что стоицизм исходил
из словесной, то есть чисто мыслительной, иррелевантности, в то время как
эпикурейцы понимали эту иррелевантность общепереживательно.
7. Скептицизм. а) Третье главное философское направление раннего
эллинизма — это скептицизм. Иррелевантный первопринцип характерен и для
скептицизма, но только здесь он получил универсальное распространение. Если у
стоиков эта иррелевантность ограничивалась в виде смысловой значимости
словесной предметности, а у эпикурейцев она охватывала также и свое
специфическое бытие (специфическое потому, что оно было свободно и изолировано
от всяких других форм бытия), то у скептиков эта иррелевантность достигала
такого своего универсального предела, что уже отрицалась возможность и нужность
всякого познания вообще и признавалась бесполезность и саморазрушительная
противоречивость всякого мышления.
Историк философии должен также и здесь соблюдать античную специфику данного
философского учения. А именно: античный скептик вовсе не отрицал существования
объективного мира, а только признавал его недоказуемость, а для душевного
спокойствия и равновесия даже и вред всяких таких утверждений или отрицаний.
Здесь тоже было на первом плане безмятежное и ничем не колеблемое абсолютное
спокойствие человеческого субъекта. Нужно было жить и действовать так, как то
велят жизненные обстоятельства: ничего не доказывая и ничего не опровергая. Без
этого античный скептицизм у многих исследователей тоже смахивает на разного
рода новоевропейские субъективистские концепции и теряет всякую свою античную
специфику.
б) Античный скептицизм имел свою длиннейшую историю, и в отношении раннего
эллинизма можно говорить разве только об его усилении. Скептическими суждениями
вообще полна вся античная философия, как и вся античная литература. Можно даже
сказать вообще, что если кто-нибудь верит в судьбу, то тем самым он уже
рассуждает как скептик, поскольку для всякого, даже самого скромного фаталиста
никогда не известно, что будет с ним или с кем бы то ни было в ближайшие же
минуты человеческого существования. Но в соответствии с эпохами античный
скепсис, конечно, был везде разный. Если миновать многочисленные скептические
высказывания у всех философов периода античной классики, то яркий скептицизм
впервые оказался характерным для столь раннего эллиниста, как Пиррон (младший
современник Платона и Аристотеля). Его скептицизм выражен и сильно, и наивно.
Такой скептицизм можно назвать интуитивно-релятивистическим.
Вместо пустого безразличия и всеобщей равнозначности суждений у Пиррона
более основательно и обоснованно рассуждали представители платоновской
Академии, но только не в тот первый ее период, когда еще было весьма сильно
влияние платоновского абсолютизма, но во Второй Академии во главе с Аркесилаем
и в Третьей Академии во главе с Карнеадом, то есть уже в III — II вв. до н. э.
При этом если Аркесилай выдвигал понятие вероятности вместо абсолютного
знания и понимал эту вероятность более или менее интуитивно, то Карнеад уже
определенным образом всю эту сферу вероятности подвергает весьма острой критике,
так что в результате возникают и разные степени вероятности, и разнообразная
переплетенность различных планов вероятности. Но уже Четвертая и Пятая Академии
стали определенно заимствовать у стоиков некоторые вполне объективистские их
учения, так что представители этих академий Филон и Антиох (I в. до н. э.)
многими современными исследователями трактуются как эклектики. Но и на этом
история античного скептицизма не кончилась. Сильные скептики — Энесидем и
Агриппа — действовали еще в самом конце прежней эры, а талантливейший
углубитель античного скепсиса Секст Эмпирик действовал еще во II в. н. э.
Несмотря на относительно-релятивистскую концепцию академической теории
вероятностей, Секст Эмпирик продолжал оставаться на почве абсолютного
скептицизма, признавая даже, что и его собственная критика догматизма тоже
недоказуема и тоже бесполезна.
Такое многовековое (и притом весьма мощное) господство античного
скептицизма, конечно, требует для себя своего социально-исторического
обоснования. Но оно уже указано нами выше и сводится к попытке освободить
человеческий субъект от всяких внешних треволнений и обеспечить для него
беззаботное и безмятежное внутреннее самочувствие.
8. Точная историко-философская формула эллинистического скептицизма.
Насколько можно судить, формула эта создается гораздо легче и понятнее, чем в
применении к стоицизму и эпикуреизму. Дело в том, что об этой иррелевантности
повествует уже сам скептицизм, и притом с начала до конца. Другими словами, этот
общий для раннего эллинизма иррелевантный принцип вполне сознательно проводится
у скептиков и как исходный принцип, и как принцип заключительный. Нужно только
не забывать то, что здесь перед нами развертывается все же не какая иная, но
именно античная философия. Поэтому даже и скептицизм вовсе не отвергал
существования объективного мира, а отвергал только его познаваемость и нужность
такого его познания. Скептики всегда подчеркивали, что они не только признают
существование и космической, и человеческой жизни, но что, наоборот, в своей
практической жизни они всегда считают необходимым базироваться именно на
объективно-фактическом содержании жизни. Они отвергали не саму жизнь, но ее
познаваемость. Нужно было жить, попросту говоря, без философии; и это только
для того, чтобы сохранить внутреннее спокойствие человеческого субъекта.
Следовательно, в сравнении со стоиками и эпикурейцами скептики не
останавливались на каком-нибудь специальном типе иррелевантности, но признавали
ее решительно целиком, решительно во всем, признавали ее в ее предельной
обобщенности. Но интересно, что даже при таком понимании иррелевантности
все-таки не получалось абсолютного субъективизма в новоевропейском смысле слова.
Существование объективного мира ни на одно мгновение у скептиков не отрицалось,
но, кажется, такой предельный принцип иррелевантности, пожалуй, был даже
понятнее и проще тех его специфических применений, которые мы находим у стоиков
и эпикурейцев.
9. Некоторые термины, полезные для усвоения эллинистической
иррелевантности. Поскольку используемый нами термин
“иррелевантность” берется нами из современной философии, является
большим соблазном понимать этот термин совсем не в античном смысле слова.
Попробуем сделать в этой области несколько пояснений.
а) Так как значение слова не есть ни его физическая, ни его физиологическая,
ни его психическая данность, можно было бы считать такой термин признаком
какого-то нигилизма. Однако стоики были сторонниками абсолютной
субстанциальности бытия и ни на один момент ее не отрицали. Поскольку же этот
термин все же ими применялся в области космического объективизма, он, очевидно,
тоже становился принципом объективного бытия, но только принципом в
специфическом смысле. А именно: он стал трактоваться как символ вещи и
всех вещей, как символ всего космоса. Что космос обладал своей собственной
идеей, это в античности знали и до стоиков. Однако идея, взятая в чистом виде,
очень легко становится абстрактным понятием, которое то утверждается, то
отрицается.
В эпоху эллинизма возникла потребность говорить о такой идее вещи, которая
была бы только чистой идеей, как это выходило, например, у Аристотеля,
создавшего свое учение о чтойности. А в таком случае значимость иррелевантной
идеи необходимым образом приходит к тому, что она становится символом
вещи. Смысл вещи, ее чтойность, не может быть самой же вещью по ее субстанции,
потому что в таком случае и в отношении самой идеи вещи возник бы вопрос о ее
чтойности. Таким образом, либо вещь является носителем определенного смысла
вещи, и тогда этот смысл вещи уже не есть вещь просто; либо смысл вещи тоже есть
вещь, но тогда она, находясь в самой вещи, отнюдь не является субстанцией вещи,
она есть ее символ.
б) Нагляднейшим примером того, как идея вещи, находясь в самой вещи,
субстанциально не есть она сама, является организм. Основные органы
всякого организма таковы, что их уничтожение есть уничтожение самого организма.
Значит, весь организм как своего рода смысловая субстанция существует в каждом
существенном органе организма, но физически ее указать нельзя. В физическом
смысле организм не есть только органическое. Чтобы быть организмом, в
физическом теле сам организм должен присутствовать нефизически.
в) Далее, в диалектическом смысле весьма любопытно то соотношение тела вещи
и ее иррелевантной значимости, которая выражается в том, что эта иррелевантная
значимость вещи есть предел вещественной жизни вещи. Вещь, пока она
существует, стремится выразить свою идейную направленность, стремится так или
иначе к ней приблизиться. Однако принцип предела — это чрезвычайно важный
принцип, на котором в новое и новейшее время строится, между прочим, и такая
точная дисциплина, как математика. Стоический лектон есть отдаленное
пророчество всеобщенаучной значимости принципа предела. Ведь то, что называется
в математике пределом, никогда не достижимо для приближающихся к нему величин,
и тем не менее он руководит этим становлением вещей, этим их направлением. В
таком смысле предел иррелевантен как недостижимый символ и принцип того или
иного становления.
г) Наконец, приближение к пределу, которое необходимым образом входит в
понятие иррелевантной идеи, отличается в античности чрезвычайно активным
характером. Герои тут не рождаются героями, но они только становятся ими. Эти
эллинистические мудрецы, то есть стоики, эпикурейцы и скептики, живут
чрезвычайно напряженной внутренней жизнью, и своей жизненной иррелевантности
они достигают только в результате огромных субъективных усилий. Стоическое
бесстрастие иррелевантно в отношении всего прочего, поскольку ни от чего
прочего оно уже не зависит, но нужна огромная сила воли, необходимо длительное
и даже мучительное самовоспитание, чтобы достигнуть стоического бесстрастия и
безмятежности. Таких же условий требуют для себя и эпикурейский гедонизм, и
скептический внутренний покой души.
Вся такого рода терминология весьма полезна для понимания раннего
эллинизма, хотя соответствующие текстовые материалы чрезвычайно разбросанны,
разноречивы, а иной раз даже и просто противоречивы. Но именно так необходимо
понимать сущность эллинистического субъективизма, который вовсе не есть
исключение всякого объективизма, но только нахождение в нем символических
органистических, предельно приближенных и активно наступающих
субъективно-человеческих усилий.
§2. Средний эллинизм
Вводимый нами термин “средний эллинизм” имеет не столько
хронологический, сколько вообще условный характер. Дело в том, что безусловный
и весьма строгий иррелевантный принцип трех начальных философских систем
раннего эллинизма не мог держаться в Древней Греции слишком долго. И это
особенно видно на стоицизме, который только в самом начале обладал такой
неумолимо строгой иррелевантностью. Время скоро потребовало смягчения этого
иррелевантного принципа. И это было не просто ослаблением первоначальной
строгости, но скорее переходом ее на совсем новые рельсы. Эти новые рельсы были
не чем иным, как платонизмом, в сравнении с которым строгий стоицизм оказывался
слишком бесчеловечной философией и скоро потребовал и своего ослабления, и
своего расширения. Появилась совершенно новая система философии, которую иначе
и нельзя назвать как стоическим платонизмом. Она была создана стоиками
Панецием и Посидонием во II — I вв. до н. э. Поскольку это уже далеко не было
началом эллинизма, но, с другой стороны, было еще достаточно далеко от
возникновения неоплатонизма в III в. н. э., мы называем этот стоический
платонизм средним эллинизмом. Название это, повторяем, условное.
Однако тут была и своя безусловность, зависевшая от того, что Посидоний был
действительно переходным звеном от раннего эллинизма к позднему эллинизму,
поскольку без двух или трех веков стоического платонизма само возникновение
позднеэллинистического неоплатонизма становится непонятным. Условность
употребляемого нами термина, таким образом, не мешает его полезности и
удобству.
1. Стоический платонизм. а) Если бы мы захотели дать себе ясный отчет
в том, в чем, собственно говоря, заключается строгость и неповоротливость
раннего эллинизма, то нужно было бы констатировать, что строгость эта вначале
обладала чересчур телесным характером. Стоицизм все время борется с телом для
того, чтобы достигнуть такого идеального организма, который бы уже не зависел
ни от какой телесной области. И тем не менее стоики решительно все на свете
считали телами, и только телами. Таким же вещественным пониманием
иррелевантности отличалось, конечно, и эпикурейство. Субъективная философия
начального эллинизма отошла от объективного субстанциализма античной классики,
который здесь был заменен учением о всеобщекосмическом организме. Но организм
этот мыслился вначале чересчур абсолютно, то есть чересчур телесно и
вещественно. Чувственно-материальный космос продолжал мыслиться так же телесно,
как и в период классики. Но понимание его как универсального организма делало
его чересчур телесным и вещественным, что и стало здесь вскорости ощущаться, в
то время как понимание космоса как организма было в период классики более
отвлеченным и трактовалось в виде диалектики абстрактно-всеобщих категорий. А
это и приводило к тому, что в период классики было еще рано говорить о
космическом организме и рано было протестовать против его слишком большой
строгости.
б) Вся эта философская картина классики приобрела в период раннего эллинизма
уже человеческо-органический характер, а для человека скоро оказалось слишком
мало исходить только из материально-телесного, хотя бы и органического, космоса.
Органическая телесность и вещественность, бывшая передовой в начальной стадии
эллинизма, очень скоро стала переживаться как задержка свободной мысли, как ограниченность
ее жизненного функционирования и как помеха растущей духовности бытия. Вот
почему уже через какие-нибудь сто или полтораста лет стоицизм потребовал своего
расширения и углубления. Стоическая телесность космоса и человека скоро
потребовала для себя углубления, ввиду чего общестоический материализм стал
взывать к покинутому Платону. Скоро стало казаться недостаточным утверждать в
качестве основы бытия огненную пневму, и возникла потребность
интеллектуализировать ее, превратить в мир идей, тем более что стоицизм уже с
самого начала не мог отрицать идеальный характер своей космической огненной
пневмы, а не мог он это отрицать по причине предельного обобщения понимания
этой пневмы. Так возникла во II — I вв. до н. э. философия стоического
платонизма.
в) Очень важно понимать то, что это нисколько не было отрицанием исходного
иррелевантного принципа. Ведь именно этот принцип обеспечивал для всей
материальной области ее символическую значимость. И, собственно говоря, эта
символическая значимость огненной пневмы космоса вовсе не была введена впервые
именно стоическим платонизмом, а была только им специально расширена и
принципиально утверждена при помощи платоновского учения об идеях. Эта новая
иррелевантность уже не ограничивалась только одними чувственными восприятиями,
но когда она начинала применяться к объективному миру, то доходила до тех
предельных обобщений чувственных вещей, когда уже возникало представление о
вечном мире идей. И поскольку этот последний, как и во всех эллинистических
теориях, отражается также и в чувственном мире, то общеэллинистическая
иррелевантность приходит здесь к чисто чувственному восприятию идеального мира,
когда все идеальное вдыхается наподобие воздуха и вместе с ним и ощущается как
теплота живого организма. Только здесь впервые идея воспринимается не просто
как чувственно-материальный элемент, не просто как логическая категория, хотя
бы и подвижная, и не просто как организм, а как чувственно воспринимаемая идея,
как такая идея, которую человек ощущает путем дыхания собственного тела и путем
ощущения его жизненной теплоты.
2. Точная историко-философская формула стоического платонизма. а)
Поскольку исходная космическая огненная пневма стала отождествляться у
Посидония с платоновским миром идей, постольку первоначальный физический
организм космоса уже перестал трактоваться только вещественно. Он стал теперь
отражением также и мира идей, а это превращало всю картину космического
организма из чисто вещественного в организм вещественно-смысловой, то есть в
такой, который, оставаясь телесным, уже получал чисто смысловую структуру.
Стоицизм стал учением о непосредственно-чувственной ощутимости такого
мирового организма, который трактовался не просто в своей фактической данности,
но также и в своей смысловой, а значит, и структурной настроенности.
Это было только естественным развитием первоначальной иррелевантной
концепции, потребовавшей теперь не только теории космического организма, но и
теории смысловым образом построенного космического организма.
б) Заметим еще раз, что чувственно-материальный космос понимался как живой
организм решительно во все периоды античного философского развития. Но в период
классики он выступал пока еще как абстрактно-всеобщая категория. И только в
стоицизме впервые возникло развитое и специальное учение о всеобщем и живом
космическом организме — в связи с исходным иррелевантным принципом. Этот
иррелевантный принцип, как мы говорили выше, стал трактовать всю космическую
телесность как аллегорию идеального мира. И сначала эта идеальность нисколько
не отличалась от космической телесности. Однако скоро стало выясняться, что эта
телесность и есть не что иное, как организм. Но тут-то и потребовался тот
бестелесный принцип, который делает органическую структуру именно организмом и
ввиду своей иррелевантности вещественно нигде и не присутствует в частях
организма как нечто вещественное же. Поэтому учение специально об организме не
могло появиться без иррелевантного принципа; и до появления этого последнего
космос хотя и трактовался как организм, но понимался в первую очередь как
система тех или других абстрактно-всеобщих категорий объекта вообще, а не
специфически организма.
в) Но с появлением стоического платонизма стала выясняться не только
необходимость отождествления исходной огненной пневмы с миром идей, но и
ограниченность такого отождествления. Раз возникло учение о мире идей, то этот
последний все время стремился стать самостоятельным и уже независимым от
материи бытием. Ведь опора на мир идей создавала смысловую структуру
чувственно-материального космоса. Но ведь всякий организм возможен только тогда,
когда имеется или само внеорганическое бытие, или по крайней мере представление
о нем. Платоновский мир идей обеспечивал для стоиков чувственно ощутимую
разумность космоса. Но ведь уже самое обыкновенное чувство жизни требовало
признания, что в жизни действуют также и внеразумные факторы. Поэтому стоики
получали, собственно говоря, разумный рисунок действительности, но не всю
действительность целиком, а это значит, что наряду с платоновским миром идей им
все-таки пришлось признать принцип судьбы как внеразумного фактора жизни.
Следовательно, все тот же исходный иррелевантный принцип заставил стоиков
трактовать всю материально-чувственную структуру космоса не только как
аллегорию мира идей, не только как идеально обусловленный рисунок жизни, но и
как аллегорию внеразумной и внеидейной судьбы. Оставалось, следовательно,
создать такое учение, которое было бы в силах объединить и весь разумный мир
идей, и всю неразумную стихию судьбы. Но стоический платонизм был не в силах
это сделать. Это сделал только неоплатонизм с его учением о сверхразумном
первоединстве всего разумного и неразумного в эпоху позднего эллинизма, в III
в. н. э. Но об этом еще придется сказать ниже.
3. Поздние стоики. Как мы уже знаем, стоицизм оказался в античности
философией весьма упорной и длительной. И только в III в. н. э. можно говорить
о его завершении, и то не столько о каком-нибудь падении стоицизма, сколько об
его растворении в неоплатонизме, правда уже с новой трактовкой прежних
представлений о вещественно-телесном приоритете. Здесь должны быть упомянуты
такие мировые имена, как Люций Анней Сенека (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.),
Эпиктет (ок. 55 — 135 гг. н. э.) и Марк Аврелий (121 — 180 гг. н. э.).
а) Говорить о каких-нибудь коренных изменениях у этих поздних стоиков в
сравнении с прежними стоиками не приходится. Тем не менее новшества здесь все
же были. И одно из них само бросается в глаза при изучении этих
позднестоических текстов. Это прежде всего то, что человеческая личность теряла
здесь не только гордое величие, с которым она выступала в период классики,
когда вечность, красота и постоянство движений небесного свода были идеалом
также и для внутренней жизни человеческой личности, но и ту (если не гордую, то
во всяком случае огромную) силу внутренней морали у стоиков, когда внутренняя
жизнь человека объявлялась наивысшим и максимально достойным произведением
искусства.
б) С другой стороны, однако, — и это легко понять в связи с тогдашней
эпохой, — человеческая личность настолько снижена в этом позднем стоицизме, что
она часто трактуется здесь в самом жалком и беспомощном виде. Чувство
беспомощности человека доходило здесь почти до христианского учения о смирении,
хотя самого христианства здесь, конечно, не было. Наоборот, эти стоики относились
к христианству часто с прямой ненавистью, а император Марк Аврелий прославился
даже своими специальными указами о гонении христиан. Здесь было весьма далекое
от христианства, но все-таки весьма настойчивое и духовно-интимное чувство
человеческого ничтожества, доходившее до какой-то жажды искупления. Это было,
несомненно, новшеством в стоицизме, хотя его философская основа в нем
оставалась непоколебимой.
в) Одна большая философская противоположность особенно чувствуется при
изучении всех позднестоических текстов. Дело в том, что поздние стоики тоже
являются стоическими платониками с явным ученичеством у Посидония.
Здесь, казалось бы, человеческий субъект должен находить для себя весьма
глубокое основание, перед которым должна была бы меркнуть вся хаотическая
бесконечность жизненных мелочей, столь удручающих стоика. Фактически, однако,
дело обстояло совсем иначе. Ничтожество человеческой личности продолжало
развиваться и углубляться настолько, что наличие теории платонических идей и
платонического всеобщего разума приводило не к возвеличению человека, а,
наоборот, только к прогрессирующей сакрализации жизненных отношений
философа.
Ведь общеизвестно, что весь ранний эллинизм, то есть весь ранний стоицизм,
не говоря уже об эпикурействе или скептицизме, отличался явными чертами
секуляризации, поскольку здесь выдвигался на первый план принцип всеобщей
телесности, хотя и с определенным аллегорическим содержанием, поскольку за
человеческим субъектом признавалась здесь огромная и вполне свободная воля
устраивать свою жизнь самостоятельно, гордо и неприступно. Но поздние стоики, о
которых сейчас идет речь, не только были стоическими платониками, но и доводили
этот стоический платонизм до самой настоящей сакрализации и в оценке
общекосмической жизни, и в оценке субъективного состояния человека. Поэтому не
только онтологически (в смысле космического символизма), но и морально поздние
стоики, несомненно, оказывались переходным звеном от стоического платонизма
типа Посидония к неоплатонизму III в.н.э.
г) В заключение необходимо сказать, что в течение этого почти двухвекового
философствования поздних стоиков основная мысль стоического платонизма только
развивалась и углублялась, вместе с ней увеличивалось и чувство беспомощности
человеческой личности, а это вело к постепенному развитию и сакрализации,
которая удивительным образом все еще продолжала допускать общеантичное
любование на красоту и совершенство всеобщего чувственно-материального космоса.
4. Плутарх (46 — 127 гг. н.э.).
Плутарх Херонейский для истории античной философии весьма интересен как
переходное звено от раннего стоического платонизма к неоплатонизму. В прежние
времена часто употреблялась характеристика философии Плутарха в качестве
философии эклектической. Но этот термин — “эклектизм” — звучит в
настоящее время слишком механистически и бессодержательно.
У Плутарха действительно можно находить следы самых разнообразных
философских тенденций. Он критикует стоиков за их материализм, пантеизм и
этический ригоризм. Он — платоник. Но все же от стоицизма у него остались вещи,
которые отныне уже не исчезнут из античной философии. Таково учение Плутарха о
причастности человеческой души к мировой душе, а также человеческого разума — к
божеству. Таково стремление Плутарха найти единое начало среди самих божеств. И
вообще говоря, платонизм Плутарха, несомненно, прогрессирует в сравнении с
Посидонием, действовавшим на столетие раньше.
Однако историко-философская точность заставляет признать, что платонизм
Плутарха скорее описательного или, может быть, интуитивного
характера, что и помешало ему стать неоплатоником, то есть диалектиком.
В описательном плане чувственно-материальный космос Плутарха весьма убедителен
и даже изыскан. С такой общей интуитивной точки зрения Плутарха уже не
беспокоит бездна, отделяющая материю от идеи. Никакой такой бездны у Плутарха,
можно сказать, и не чувствуется в разнообразных характеристиках у него
общефилософского монизма. И тем не менее все же материя и идея принципиально
оказываются у него чересчур большой противоположностью, которую неизвестно чем
можно было бы преодолеть. Другими словами, сверхразумное первоединство, которым
прославился основатель неоплатонизма Плотин, можно сказать, почти целиком
отсутствует у Плутарха. И поэтому Плутарха все же остается зачислить в эту
переходную эпоху, между средним и поздним эллинизмом, поскольку Плотин выступит
только в середине III в. н. э.
5. Поздние платоники. а) Поздние платоники — II — III вв. н. э. — уже
целиком отошли от стоического материализма, но воспользовались из/него весьма
фундаментальными концепциями. В стоическом платонизме мир идей занял
первостепенное место наряду с огненной пневмой, и это единство идеи и материи
осознавалось чем дальше, тем глубже. Стоические категории огня, пневмы,
мирового ума и мировой души, — вся эта иерархийная эманация, исходившая из
номинально понимаемого огненного дыхания, в течение II и III вв. н. э.
постепенно окончательно освобождалась от стоического материализма, и
вещественно-телесная эманация, не теряя творческой силы своего становления, не
хуже Аристотеля стала пониматься энтелехийно, то есть в виде
текуче-сущностного становления. Поздние платоники II — III вв. н. э. на все
лады пользовались этими стоическими принципами, уже терявшими свою телесную
сущность и постепенно превращавшимися в смысловое, или в текуче-сущностное,
становление.
б) Поздних платоников многие еще и теперь тоже считают какими-то
беспринципными эклектиками. На самом деле привлечение разного рода
платоновских, аристотелевских, посидониевских, а также и вообще стоических
принципов имело свою собственную принципиальную направленность. Это было
исканием существенного единства платонизма, аристотелизма и стоицизма; и это
было достигнуто Плотином в самой роскошной, в самой красивой и убедительной
форме. Но как мы сейчас сказали, объединить все разноречивые формы мысли можно
было только путем диалектического их объединения, причем единение это
оказывалось уже выше отдельных объединяемых принципов, то есть выше космоса,
выше космической души и выше космического и даже надкосмического ума. Исканием
этого объединения и были заняты поздние платоники.
в) Главнейшие имена поздних платоников следующие. Это Гай, Альбин, Апулей,
Аттик, Нумений, Аммоний Саккас. Эти философы действовали в I — III вв. н. э.
Об основателе этой школы поздних платоников — Гае почти ничего не
известно.
Альбин интересен тем, что сближал не только платонизм и стоицизм, но
присоединил сюда еще и чисто аристотелевские интересы к логике как
самостоятельной дисциплине. Учить об абсолютном первоединстве он еще не может,
но все-таки его высшее божество толкуется уже выше самого ума. Концепция ума у
Альбина тоже не отличается чистотой, но зато имеется учение о космической душе
и о множестве демонических сущностей, находящих для себя место в космосе между
высочайшим божеством и землей.
Апулей тоже еще не доходит до учения об абсолютном
первоединстве, но свое высшее божество он все же ставит выше всякой
раздельности и качественности. Платонические идеи играют у него значительную
роль. Больше всего, однако, заметен у Апулея интерес к демонологии, но не в
банальном и житейском смысле слова, а в виде своего рода логических категорий,
заполняющих бездну между познаваемым и непознаваемым, то есть в виде своего
рода эманации первоединства.
Аттик известен своим стремлением сблизить Платона и Аристотеля, что
исторически было очень важно в смысле растущей конкретизации платоновской
диалектики категорий. По Аттику, нельзя также отрицать идею провидения, как
будто бы отсутствующую у Аристотеля. А что же такое у Аристотеля его
космический ум, который такое и носит название у него — ума-перводвигателя?
Из поздних платоников к неоплатонизму ближе всего подошел Нумений.
Эта близость получилась у него благодаря весьма интенсивному учению о всеобщем
уме. Но и здесь полного неоплатонизма не могло получиться потому, что первое
начало у Нумения все же являлось опять-таки умом, хотя всячески подчеркивается
высота этого ума и свобода его от всякой деятельности, даже от творения мира.
Демиург (творец мира) тоже ум, но в отличие от первого ума он — деятельный и
творческий, а первый ум выше даже всякой деятельности. Кроме первого ума и
демиурга у Нумения существует еще третий ум, созданный, сотворенный,
материальный. Но такая концепция, при некоторых чертах, весьма близких Плотину,
уже совсем не является неоплатонической, поскольку такой третий ум был у
неоплатоников не чем иным, как структурой чувственного космоса, приводимого в
движение космической душой. Тот ум, о котором стали учить неоплатоники, не есть
ни материальный, ни душевный ум, но ум как вечное мышление в себе. Этот вечный
ум как раз и был разработан Аристотелем, и он-то как раз и перешел в
неоплатонизм в своей чистоте и принципиальной несводимости ни к каким другим
бытийным категориям.
Непосредственный учитель Плотина Аммоний Саккас окончательно
раскритиковал материальную природу ума, что и привело к полному изгнанию
всякого стоического натурализма в неоплатонизме. С другой стороны. Аммоний
Саккас полностью изгонял натурализм также и из учения о душе. Душа, по Аммонию
Саккасу, конечно, дробится в связи с одушевляемыми ею телами; но сама она
остается неделимой, нерушимой и вечной, будучи причиной движения тел, а не
самими телами. Самое же главное — это то, что и свое первое начало Аммоний
Саккас также лишил всякого натурализма, признавши его выше всякого разделения и
потому даже выше самого ума.
Таким образом, ко времени появления Плотина уже все специфические категории
неоплатонизма, можно сказать, были достаточно разработаны. Оставалось только
привести в систему эти ступени сверхумственного единства — ума, души и космоса,
и тут уже появлялась система неоплатонизма в целом. Впервые эта система и была
формулирована Плотином. И уже на данной ступени нашего изложения должно стать
ясно то, что исходный и общий для всей античности чувственно-материальный
космос стал таким неделимым существом, в котором ноуменальная структура через
посредство души стала общекосмическим телом. Но это и значит, что
чувственно-материальный космос стал единственным и единичным живым существом,
то есть человеком, то есть мифом. Это уже была не диалектика объекта и не
диалектика субъекта, а диалектическое их нерушимое единство, то есть диалектика
мифологии.
г) Так и возник последний философский синтез античной философии, где уже не
было места ни для такой объективной субстанции, которая отвергала бы все
прочее, и ни для субъективного коррелята космической жизни, который хотел бы
углубиться в себя и игнорировать материально-чувственный космос как
универсальный объект.
Это не значит, что в неоплатонизме исчез раз и навсегда
чувственно-материальный космос как объект. Наоборот, его объективная
субстанциальность здесь только подчеркивалась. Но это не значит также и то, что
исчез первоначальный стоический субъективизм с его исходным иррелевантным
обоснованием. Субъективная жизнь в неоплатонизме не только осталась навсегда,
но и достигла самых невероятных размеров, то есть достигла того, дальше чего
уже никакая античная философия не могла продвигаться и преуспевать.
Но что такое этот синтез объекта и субъекта, этот синтез природы и разума?
На этот вопрос мог быть только один ответ: человек — вот что является
сразу и одновременно как природой, так и субъективной жизнью. Но превратить
философские категории в человека так, чтобы между тем и другим возникло не
только метафорическое или какое-нибудь поэтическое отождествление или хотя бы
только равновесие, — это значит превратить логическую категорию в миф.
Подлинный диалектический синтез объекта и субъекта есть человек; а это значит,
что философия стала мифологией, поскольку только в мифе человеческая
мысль становится реальной, материальной и природной субстанцией.
Так неоплатонизм и пришел к диалектике мифа как к последнему синтезу
всех объективных субстанциальных построений и субъективно-переживательных
действий и аффектов.
ПОЗДНИЙ ЭЛЛИНИЗМ
ЧУВСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС КАК МИФ
Все эти употребляемые нами термины — “ранний”,
“средний” и “поздний” эллинизм, — конечно, имеют для нас
только чисто условное значение; и единственно, что тут безусловно, — это
послеклассический характер философии, которая отличается от классического
объективизма последовательным использованием специфически субъективных проблем
и настроений. Многие считают эллинизмом только века от Александра Македонского
до водворения Римской империи, то есть III — I вв. до н. э. При этом часто
думают, что последующие века Римской империи, вплоть до ее падения в V в. н. э.,
нужно называть не просто эллинизмом, но уже эллинистически-римским периодом.
Все это весьма условно, поскольку даже и в узко понимаемом эллинизме уже
достаточно сказалось восходящее римское владычество. Что касается данного
нашего изложения, то мы вполне условно называем поздним эллинизмом те века
Римской империи, когда постепенно подготавливался неоплатонизм, ставший единой
и окончательной школой античной философии в III — VI вв. н. э.
§1. Ранний римский неоплатонизм
Плотин (205 — 270) и его конструктивно-диалектическая мифология. а)
Если внимательно вникнуть в наше предыдущее изложение, посвященное подготовке
неоплатонизма у поздних платоников, то будет весьма легким делом формулировать
основное содержание философии Плотина. Оно заключается, во-первых, в строжайшей
диалектике трех основных ипостасей: Единого, Ума и космической Души и,
во-вторых, в учении о воплощенности этой триады в чувственно-материальном
космосе. Этот последний, таким образом, уже перестал рассматриваться у Плотина
только как объект и только как субъект, но как такой космос, который оживлен
вечно подвижной душой, оформлен в виде точнейшей умственной конструкции и понят
как единое и неделимое целое.
Другими словами, обычный античный чувственно-материальный космос сразу
объявлен здесь и субъектом, включая всю душевную и умственную стихию, и
объектом, включая весь чувственно-материальный космос, причем это тождество
субъекта и объекта специально зафиксировано в том, что является тем и другим
одновременно, то есть не только субъектом и не только объектом, но и
нераздельным первоединством того и другого.
Поэтому ошибаются те, которые преувеличенно выдвигают у Плотина его три
основные ипостаси и забывают, что эти три ипостаси фактически и существуют
вовсе не сами по себе, но лишь как принцип оформления чувственно-материального
космоса. И еще более ошибаются те, которые на первый план выдвигают в античном
неоплатонизме его магизм, склонность к признанию всякого рода чудес и
волшебства и к теургии (то есть к операциям превращения человека в бога). На
самом же деле диалектика трех ипостасей, безусловно стоящая во всем
неоплатонизме на первом плане, вовсе не исключает магической практики, а,
наоборот, ее обосновывает. И магическая практика у неоплатоников тоже была на
первом месте, но не в смысле игнорирования проблем разума, а, наоборот, с
весьма тщательной их разработкой, достигшей небывалой тонкости и систематики.
Кроме того, для историка философии важна еще и последовательность развития
неоплатонической системы. Эта система никогда не стояла на месте и с появлением
каждого нового неоплатоника приобретала все новые и новые формы.
б) И как раз специфика философии Плотина очень часто ускользала и еще
теперь ускользает от внимания исследователей. Если не придерживаться буквального
текста Плотина, а продолжать додумывать этот текст до конца, то можно будет
сказать, что вся система неоплатонизма, включая таких отдаленных последователей
Плотина, как неоплатоники V — VI вв., уже содержится в философском творчестве
Плотина. Однако для историка все-таки на первом плане стоит последовательность
развития. Но вот с такой точки зрения и оказывается, что у Плотина нет ни
последовательно развитой диалектики мифа, не говоря уже о том, что у него нет
никаких магических учений. Плотин — это чистейшая диалектика, чисто логическая,
чисто конструктивная. Конечно, если Единое содержится везде и во всем, то всякая
мельчайшая вещь станет уже чудесной и фантастичной. И если из диалектики
Платона делать все практические выводы, то чисто конструктивная диалектика
Плотина обязательно окажется диалектикой магии и теургии. Если все есть бог, то
и отдельный человек тоже есть бог; и величайшую значимость теургии неоплатоник
может даже и совсем не доказывать, настолько она очевидна для него с самого
начала. Намеков на все такого рода выводы можно находить в диалектике Плотина
сколько угодно.
Тем не менее достаточно привести хотя бы один такой факт из биографии
Плотина, о котором рассказывает его ученик Порфирий в «Жизни Плотина» (гл. 10).
Именно, когда в один праздничный день Плотину было предложено пойти к богам в
храм, он сказал: “Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним”. Порфирий
при этом говорит, что он не понял этих слов Плотина и не решился расспрашивать
об их смысле.
Само собой разумеется, целиком отрицать всякого рода мифологические и
магические элементы у Плотина никак нельзя. Но все-таки необходимо сказать, что
неоплатонизм у Плотина пока еще остается на стадии
конструктивно-диалектической. Все же прочие выводы, возникающие на
путях развития и расширения конструктивной диалектики, предположительно для
Плотина мыслимы, но фактически едва намечены. Таковы, например, многочисленные,
но как бы случайные у него толкования отдельных и разрозненных мифов.
2. Порфирий (ок. 233 — 303). Огромную склонность к выводам
практического характера проявляет уже ученик Плотина — Порфирий. Формально он
продолжает исходить из трех ипостасей Плотина. Фактически, однако, подробное
обследование текстов Порфирия свидетельствует о его больших колебаниях в этой
области. Исходное Первоединое у него, например, не только непознаваемо. Вторая
ипостась, Ум, тоже значительно приближена у него к материальной области.
Самое же главное у него — это то, что он впервые проявляет самый
настойчивый и упорный интерес к практически мистической и теургической области.
О почерпании философий из оракулов у него целый трактат. Но историческая
последовательность важна и для Порфирия. Он не просто уходит полностью в
демонологию, он ни на минуту не забывает теоретической философии своего учителя
и старается как бы проверять демонологическую практику при помощи чисто
теоретических философем. Теоретическая философия все-таки и для него вполне
остается регулятивным принципом, без которого никакую магическую практику он
просто не признает.
Поэтому если философию Плотина мы назвали конструктивной диалектикой
мифологии и магизма (а не просто мифологией и не просто магизмом), то мы едва
ли ошибемся, если философию Порфирия назовем регулятивно-мифологической,
и особенно регулятивно-демонологтеской. Порфирий (в противоположность
Плотину) уже хочет использовать народную мистику, оракулы и теургию
(превращение в божество). Но он старается допускать это только после проверки
при помощи философской теории. Поэтому и нужно назвать его философию
регулятивно-мифологической и регулятивно-теургической.
§2. Сирийский и пергамский неоплатонизм
1. Ямвлих (240/245 — ок. 325) и сирийский неоплатонизм. Этот
неоплатоник является уже прямым теоретиком теургии, но не только в смысле ее
диалектического построения, но также и в смысле
вещественно-конститутивной демонологии. Что же касается его чисто
философской теории, то во всяком случае он формулировал или пытался
формулировать по крайней мере две большие новости.
а) Ямвлих внес большую ясность в учение Плотина о первоединстве, нарушенное
и усложненное сомнениями Порфирия. Ценность этого была, пожалуй, тоже только
относительной, поскольку две стороны в абсолютном первоединстве, непознаваемую
и познаваемую, различал не только Порфирий, но и Плотин. Тем не менее в связи с
деятельностью Порфирия возникала терминологическая неопределенность и
известного рода путаница.
Насколько можно судить (буквальные тексты здесь не везде понятны и требуют
тщательного анализа), Ямвлих впервые терминологически различил непознаваемое и
познаваемое в первоединстве при помощи специальной диалектики той
познаваемости, элементы которой во все времена платонизма были присущи
абсолютному первоединству. Эта познаваемость первоединства оказалась просто
сферой чисел, которые, с одной стороны, вполне непознаваемы, поскольку
они лишены всякой качественности, а с другой стороны, вполне познаваемы,
поскольку свидетельствуют о раздельных актах полагания первичного нераздельного
целого. Мало того, эти числа обязательно обладают даже и диалектической
природой.
Здесь Ямвлих привлекает старинное учение пифагорейцев и Платона о
диалектике предела, беспредельного и синтеза того и другого в числах. Каждое
число, конечно, единораздельно, поскольку мы сосчитываем входящие в него
единицы. Тем не менее такая числовая единица решительно везде и во всем одна и
та же, так что в этом смысле ни о чем качественно познаваемом Ямвлих не говорит.
По Ямвлиху, существует чистое “сверх”, то есть чистая
непознаваемость, полная нерасчлененность и полное отсутствие всякого разделения.
И это — непознаваемость. Но в абсолютном первоединстве существуют вполне
раздельные акты полагания этого единства, которые, хотя и непознаваемы,
поскольку они существуют до всяких качеств, тем не менее вполне познаваемы в
чисто количественном отношении.
И если мы сейчас правильно анализируем учение Ямвлиха о первоединстве, то,
пожалуй, нужно будет считать это учение впервые вносящим диалектическую ясность
в случайные высказывания Плотина на эту тему и в методические сомнения на эту
же тему у Порфирия.
б) Из множества проблем, которых касался Ямвлих в своей теоретической
философии, необходимо выставить также проблему Ума. Правда, Ямвлих здесь
интересен для нас не столько своими окончательными выводами, сколько
свидетельством о назревании этих окончательных выводов, в которых поэтому
многое для нас остается не очень ясным.
Самое важное, что мы здесь считаем нужным формулировать, — это всяческое
старание Ямвлиха внести жизнь в эту общую и неподвижную ноуменальную
область. Так, например, оказывается, что уже в самом Уме имеется свой умственный
предмет, свое подражание этому предмету и живой результат этого подражания.
Больше того, Ямвлих вносит в Ум самую категорию жизни, так что Ум у него, с
одной стороны, есть участвуемое бытие, а с другой стороны, это участвующая в
умственном предмете умственная же жизнь. Поэтому у Ямвлиха возникает
необходимость формулировать эту третью, ноуменальную ступень, где бытие и жизнь
сливаются в нечто целое и неделимое. На основании дошедших до нас текстов
невозможно сказать в окончательно ясной форме, как Ямвлих конкретно мыслил себе
эту третью, ноуменальную ступень. Тем не менее самый принцип категории жизни в
отчетливо яркой форме свидетельствует о намерении приблизить абстрактную и
неподвижную ноуменальную область к той ее жизненной осуществленности, которая в
конце концов и станет в неоплатонизме опорой для диалектики мифа.
в) У Ямвлиха тут дается попытка обосновать демонологию и теургию чисто
теоретическим, а именно диалектическим путем. Все божества разделяются у него
на определенные категории, и каждая категория строится у него триадически.
Сейчас мы не будем приводить эту систему Ямвлиха в целом, потому что нечто
подобное мы изложим ниже, на материалах Саллюстия и Прокла. Вот почему демонологию
и теургическую теорию Ямвлиха уже нельзя назвать только регулятивной, как это
мы установили по отношению к Порфирию, но уже вещественно-конститутивной,
как об этом мы тоже сказали выше. Магическая практика теургии не просто
регулируется здесь свыше, но уже дается в своем реально сконструированном
содержании.
2. Саллюстий, Юлиан и пергамский неоплатонизм. Весьма любопытна эта
постепенная и детальнейшая диалектика мифологии, назревавшая в античном
неоплатонизме в течение четырех веков. Казалось бы, если Ямвлих ввел категорию
жизни в такую общебытийную область, как ноуменальная, то этим самым теургия уже
получила свое окончательное обоснование. Оказывается, однако, что до
окончательности в сирийском неоплатонизме было еще далеко.
Дело в том, что теургизм, взятый сам по себе, все-таки есть определенного
рода человеческая практика жизни. Попробуем идти не сверху вниз, то есть не со
стороны жизненно-функционирующего Первоума к жизненной практике теургии, но
снизу вверх, то есть от жизненной практики теургии к ее предельно данной и
обобщенной теории. Тогда и окажется, что необходимо будет давать теорию уже и
мифологии, ведь миф есть предельно и субстанциально данная теургия.
Пергамский неоплатонизм есть уже и эта диалектика мифологии, но, что любопытнее
всего, тоже пока еще не окончательная.
а) Саллюстий, или Саллютий (середина IV в.), которого необходимо
считать центральной фигурой пергамского неоплатонизма, интересен как раз тем,
что впервые дает определение мифа как чисто философской категории. В
мифе, по мнению этого философа, сливаются в одно нерасторжимое целое
познаваемость и непознаваемость бытия, с одной стороны, с восхождением к
неоплатоническому абсолютному Первоединству, а с другой стороны, с завершением
в чувственно-материальном космосе. Символизм, всеединство и космологизм — вот
что такое античная мифология.
Насколько можно судить, мифология впервые получает здесь свой окончательный
философский смысл, поскольку здесь конструируется чувственно-материальный
космос как в своей материальной и физической стихии, так и в своей
душевно-жизненной и умственно построяемой структуре.
б) Но Саллюстий дает также и классификацию богов, и тоже в плане
логической систематики. Боги у него сверхкосмические (Уран, Кронос и Зевс I) и
космические. Космические боги тоже делятся у Саллюстия на богов, создающих мир
(Зевс II, Посейдон, Гефест), на богов, одушевляющих мир (Деметра, Гера,
Артемида), и на богов, упорядочивающих мир (Гестия, Афина, Арес). Другие боги
так или иначе подчинены этим 12 основным богам.
Чувственно-материальный космос везде имеется у Саллюстия в виду; это
явствует из того, что у Саллюстия точно так же существует 12 космических сфер:
сфера Гестии — земля, Посейдона — вода, Геры — воздух, Гефеста — огонь,
Артемиды — луна, Аполлона — солнце. Далее следуют сферы Гермеса, Афродиты,
Ареса и Зевса. Это — те небесные сферы, которые у нас обычно именуются
латинскими названиями Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Дальнейшая сфера под
обычным названием Кроноса (Сатурна) отнесена к Деметре. И последняя сфера эфира
отнесена к Афине. Уран, или небо, объединяет всех богов.
в) То, что мы сейчас сказали о Саллюстий, ясно характеризует собою всю
линию пергамского неоплатонизма. В отличие от сирийцев здесь создаются не
только предпосылки, необходимые для диалектики мифа, но проводится уже и сама
эта диалектика, хотя все еще пока слишком принципиально и слишком описательно.
Саллюстиеву классификацию 12 богов, состоящую из четырех триад, уже необходимо
понимать как диалектическую. Но все-таки эта диалектика здесь пока еще слишком
описательна. Это — принципиально-описательная диалектика мифа. Каким
категориям общей диалектики соответствуют мифологические имена у Саллюстия,
догадаться можно. Да он и сам об этом кое-что говорит. Тем не менее у Саллюстия
все же нет конструктивно-диалектической систематики мифологии.
г) В этом отношении решительным шагом вперед является философия императора
Юлиана (332 — 363), ученика и друга Саллюстия. Если взять для примера
такие две блестящие речи Юлиана, как о царе Солнце или о Матери богов, то на
них можно легко убедиться в том, что здесь уже не просто принципиальный подход
к мифу или его описательная структура. Оставалось только, чтобы такой же
целостно-диалектический подход был применен и ко всем вообще фигурам древнего
Олимпа.
Это была уже не принципиально-описательная, но
систематически-объяснительная и систематически-категориальная
диалектика мифа. Созданием такого рода диалектики прославились афинские
неоплатоники.
§3. Афинский неоплатонизм
1. До Прокла. Здесь необходимо упомянуть в первую очередь о трех
философах, деятельность которых была весьма значительной. Они были вождями
Платоновской Академии в Афинах в IV — V вв.
а) Плутарх Афинский для построения своей философии детальнейшим
образом использовал платоновского «Парменида», указавши тем самым на очередную
для того времени спайку прогрессирующего магического теургизма с тончайшей
категориальной диалектикой.
б) Гиерокл Александрийский
характерным образом называет первичное начало диалектического процесса просто
богом, а остальное трактуется у него как та или иная иерархическая причастность
божеству. С историко-философской точки зрения важно также учение Гиерокла об
эфирном и светоносном теле, конкретно рисующее физические условия для
реальности мифа.
в) Сириан Александрийский, ученик Плутарха Афинского и учитель Прокла,
известен как комментатор Платона и Аристотеля, между прочим резко критикующий
антиплатоновские выпады у Аристотеля. У этого Сириана было богатое учение о
числах. А в своем учении о ноуменальной области он много поработал над
включением стихии жизни в структуру чистого ума, хотя для нас тут многое
остается неясным ввиду плохого состояния источников. Вообще говоря, эта
жизненная стихия всей ноуменальной области трактовалась у неоплатоников везде
по-разному, но сводилась к одному. Этот третий момент общеноуменальной триады
во всех случаях мыслится как поэтическое становление, как поэтическая
фигурность, заряженная психическими функциями, или, вообще говоря, как
творческий ум, хотя еще и до перехода в то, что он будет творить и для чего он
будет прообразом и идеей, то есть до перехода в мировую душу, и уж тем более до
перехода в космос. Здесь Сириан является прямым предшественником и
непосредственным учителем Прокла.
2. Прокл (410 — 485) и общий характер его философии. а) Этот общий
характер философии Прокла можно и нужно формулировать очень просто. Именно, это
есть окончательная логическая разработка как всего античного неоплатонизма, так
в значительной мере и всей античной философии. Все же признаки неполноты и
недодуманности до конца, которые мы находим у предыдущих неоплатоников, у Прокла
устранены окончательно.
б) Это прежде всего касается проблемы Первоединства. Мы видели, что уже
Ямвлих старается додумывать до конца все познавательные элементы, которые
содержатся в непознаваемой природе Первоединства. Само Первоединство именуется
на этот раз просто богом; и это — не только предположительно или
неокончательно, но уже с полным сознанием дела и с полным додумыванием проблемы
до конца. Бог — это изначальное, вышебытийное и сверхразумное первоединство. А
это уже раз и навсегда устраняет для Прокла всякую проблематику идеального и
реального, субъективного и объективного, провидения и судьбы. Но это — бог
вообще. Наряду с ним существуют еще и другие боги. И для них у Прокла тоже
указывается определеннейшее и точнейшее диалектическое место. Ведь, как мы
знаем, в сфере Первоединства неоплатоники выделяли область чисел, непознаваемых
ввиду отсутствия в них всякого бытийного качества, но вполне познаваемых ввиду
необходимости представлять абсолютное Первоединство все же и как принцип
раздельности, необходимый для бытия и для познания всего вообще существующего,
как принцип полагания чего бы то ни было. Боги в этом смысле есть универсальные
единораздельные структуры Первоединства, представляющие собою онтологические
условия возможности для существования единораздельного бытия и тем самым
создающие возможность познания этой единораздельности. Этим первичным богам
даже еще не свойственны никакие имена, поскольку всякое имя уже предполагает
качественную характеристику именуемого; а здесь пока еще числовые структуры, то
есть абсолютные полагания как таковые, а не качественные. Прокловские боги —
это универсальные логические модели всякого бытия вообще. А отдельные боги уже
отражают переход от бескачественного Первоединства к понятийно качественной
ноуменальной сфере с дальнейшей и уже ослабевающей эманацией божественности в
космической душе и внутри самого космоса в виде бесконечной иерархии
демонических существ вплоть до человека.
Если мы усвоим себе это прокловское отождествление диалектики с мифологией
и мифологии с диалектикой и если такой термин, как «бог», понимать не как
смутную бесформенность неизвестно чего, а как тот или иной тип
актуально-порождающей числовой бесконечности, то не так трудно будет
разобраться в других проблемах Прокла, которые при всяком ином, непрокловском
подходе превращаются в какую-то бессмыслицу или, самое большое, в ничем не
обоснованную фантастику.
3. То же. Ноуменальная сфера. Здесь прежде всего мы, конечно,
встречаемся с ноуменальной сферой, но для понимания которой необходимо отчетливо
себе представлять также и доноуменальную сферу. О доноуменальной сфере мы до сих
пор знаем только то, что это есть сфера богов-чисел. Однако у Прокла проводится
здесь еще и другая, и тоже весьма тщательная, диалектика. Элементы этой
диалектики мы находили еще и до Прокла, но не в окончательном и не в
систематическом построении при помощи категорий диалектики.
По Проклу, первое место во всей ноуменальной сфере принадлежит предмету
Ума, или умопостигаемому (noeton). Это есть предел, образец и предмет участия
для всего прочего. Вторая ступень во всей этой огромной области Ума
принадлежит, по Проклу, не только умопостигаемой ступени. Здесь Ум уже не
просто бытие, но бытие становящееся, причем становление это пока еще чисто
умственное. Это есть жизнь внутри Ума, и потому Прокл называет эту ступень не
умопостигаемой, но умозрительной (noeron). Мы бы сейчас назвали это субъектом
Ума в отличие от Ума как объекта, мышлением, а не мыслимым. Интереснейшим
образом в мифологии это соответствует той Гее — Земле, которая порождает из
себя Урана — Небо. И это вполне соответствует старинной античной диалектике,
для которой Земля и Небо являются символами всей космической жизни или, точнее
сказать, порождающими, оформляющими и осмысляющими все живое. Мышление как
объект здесь вовсе не отсутствует, поскольку без него Уму нечего было бы и
мыслить. Поэтому для более точной терминологии Прокл именует всю эту вторую
ступень Ума не просто умозрительной, но и умопостигаемо-умозрительной (noeton —
noeron), или, как обычно выражаются латинисты,
интеллигибельно-интеллектуальной.
За этим естественным образом следует, по Проклу, и тот момент, в котором
субъект и объект мышления сольются в нечто субстанциально-нераздельное, в то
время как перед этим мыслящий субъект и мыслимый объект все же один другому
противополагались. Эту третью и окончательную ступень всей ноуменальной области
Прокл называет не бытием и жизнью, не объектом и субъектом, не мыслящим и
мыслимым, но уже просто мыслительным — в виде субстанциально осуществляющего ум
живого существа или живых существ. Бытие и жизнь сливаются здесь в одном живом
существе, которое одновременно и существует, и живет. Это необходимо для Прокла
потому, что весь чувственно-материальный космос является и вечной жизнью, и
вечным упорядочением жизни. И вот, для того чтобы объяснить эту синтетическую
сторону природы и космоса, Прокл уже в докосмической области, то есть в чисто
ноуменальной области, мыслит соответствующий принцип живого существа. Ведь если
космос есть живое существо, то, значит, можно и нужно говорить также о живом
существе вообще, то есть о живом существе как о принципе еще в до-космической
жизни, докосмического осуществления своего ноуменального первообраза еще в области
самого Ума. А это и есть третья бытийно-жизненная и жизненно-бытийная ступень
чистого, то есть докосмического, Ума.
Эту ступень Прокл называет Кроносом, а в более точном виде тоже
представляет себе в виде диалектической триады — Кроноса, Реи и порожденного
ими Зевса, которого в отличие от олимпийского Зевса можно назвать Зевсом I.
Этот Зевс уже настолько близок к чувственному космосу, что он трактуется у
Прокла как прямой оформитель и осмыслитель космоса, то есть как демиург.
Тут обычно в литературе можно встретить разного рода усмешки по поводу
категории Зевса I у Прокла. Дело в том, что и Кронос, и Рея, родители Зевса I,
— каждый трактуется у Прокла тоже триадически. Так что вся эта ноуменальная
ступень представлена у Прокла как седьмерица. А поскольку каждый из семи
моментов Прокл представляет себе тоже в виде семи частичных моментов, то,
следовательно, получается всего 49 категорий, из которых состоит эта третья,
ноуменальная область.
С точки зрения сугубо исторической тут совершенно не над чем насмехаться.
Ведь если мы возьмем любой капитальный трактат из философов Нового времени, мы
в нем тоже найдем разделение на главы, глав на параграфы и параграфов на еще
более мелкие части и категории. Если взять, например, «Науку логики» Гегеля, то
в ней мы найдем не 49, а несколько сот подчиненных и соподчиненных категорий, и
никто не удивляется их множеству. Следовательно, и большая категориальная
детализация у Прокла тоже ничего не представляет собой смешного, а только
свидетельствует об огромной категориальной разработанности в системе Прокла.
4. То же. Психически-космическая сфера. После диалектики ноуменальной
сферы Прокл переходит к диалектике посленоуменальной сферы, то есть начинает
конструировать телесный космос, представляющий собою осуществление ноуменальных
принципов. Этот живой космос, конечно, есть космос чувственно-материальный. Но
он обладает определенного рода структурой на основании ноуменальных структур.
Именно, этот живой космос есть прежде всего бытие, и соответствующих
космических богов Прокл в данном случае именует сверхкосмическими. Здесь он
устанавливает целых четыре триады. Далее следует мифолого-диалектическая
характеристика космоса как жизни. Но сначала у Прокла рассматривается
граница между бытием и жизнью, и подобного рода граница одинаково является и
космическим бытием, и космической жизнью. В этом смысле такая область является
в то же время и отрешенной как от чистого бытия, так и от чистой жизни. По
Проклу, это и есть то, что обычно называется олимпийскими богами. Здесь тоже
четыре триады: боги демиургические (Зевс III, Посейдон II, Гефест),
охранительные (Гестия, Афина III, Арес I), оживительные (Деметра, Гера,
Артемида II) и возводительные (Гермес I, Афродита I, Аполлон II). Цифры при
всех этих именах богов проставляются нами ввиду того, что эти имена уже
встречаются у Прокла в его диалектике космоса как бытия. Интересно, что этих
олимпийских богов Прокл квалифицирует не как только внутренних богов, то есть
богов как бытия, и не как только внешних богов, которые будут в цельном космосе
и внутри него, но и как внешне-внутренних. Диалектически это интересно потому,
что в данном случае Прокл пытается — и в значительной мере это ему удается —
обрисовать вечно созерцательную и вечно самодовлеющую природу олимпийских богов,
ни в чем не заинтересованных, но все же содержащих в себе и принцип самого бытия
космоса, и принцип самой жизни космоса.
Наконец, живой и чувственно-материальный космос есть не только бытие и не
только самодовлеющая жизнь, но и самая эта жизнь. Это — сам
чувственно-материальный космос, данный уже как вещь, как тело, как живое
космическое тело. Тут мы находим у Прокла звездное небо с его богами, семь
планетных сфер и подлунную, которые рассматриваются в порядке уже нисходящей
эманации, низшей сферой для которой являются ангелы, демоны и души, так что вся
эта эманация кончается органическим и неорганическим миром.
Следовательно, космическая жизнь завершается чистой, то есть уже никак не
оформленной, материей, о которой, по Проклу, тоже нельзя сказать, что она
совсем не существует, но нужно говорить, что она есть потенция всего
существующего. Это — материальная потенция всего существующего, в то время как
абсолютное Первоединство тоже есть потенция, но только не просто материального,
а вообще всякого бытия, включая живое и неживое, телесное и душевное,
умственно-оформительное и внеумственно-оформительное. Общее между исходным
Первоединством и материей заключается в том, что то и другое есть только
потенция бытия, а не само бытие; и потому, взятые сами по себе, они не
познаваемы. Но зато они являются условием всякого познавания. Первоединство
является концентрацией всего существующего в одной точке, материя же есть
абсолютное распыление всякого бытия. Все познаваемое и все оформляемое
возникает, по Проклу, только в результате диалектического объединения того и
другого, когда из бесформенной потенции действительности появляется сама
оформленная действительность. И в данном случае современный мыслитель может
сколько угодно отрицать основы диалектики Прокла, но он должен будет признать,
что, взятая сама по себе и безотносительно, эта диалектика Прокла является не
только строго продуманной системой категорий, но эта система, если исходить из
античных основ диалектики, отличается безупречной ясностью и убедительной
полнотой.
5. Дамаский. Учеником Прокла, его наследником по возглавлению
Платоновской Академии вплоть до закрытия ее в 529 г. был Дамаский.
Следовательно, его деятельность относилась к концу V и началу VI в.; а поскольку
это было концом Платоновской Академии, то можно считать, что Дамаский — это и
вообще реальный символ гибели всей античной философии. Что касается общей
философской системы, Дамаский является верным учеником и последователем Прокла.
Однако аналитическая сила его ума вызывает у современного исследователя какое-то
изумление и, можно сказать, восторг. Противники изощренного аналитизма всегда
понимали философию Дамаския как нечто схоластическое в дурном смысле этого
слова, как нечто излишне утонченное и как праздное упоение рассудочными
тонкостями. Все подобного рода вкусовые оценки Дамаския, конечно, не к лицу
объективно мыслящему историку философии, которого интересуют исторические факты,
а не его собственные вкусы. Поэтому еще не скоро наступит время, когда философия
Дамаския будет пониматься и излагаться в том виде, в каком это требуется при
строго исторических методах. Излагать всю эту детальнейше разработанную
диалектику у Дамаския мы в настоящей нашей работе не имеем возможности. Однако
мы считаем своим долгом указать на глубину диалектики Дамаския, требующей для
себя специального исследования[3].
§4. Неоплатонизм и античная мифология судьбы
1. Логический и структурный смысл античного учения о судьбе. Поскольку
судьба всегда являлась в античности одним из первых и самых необходимых
предметов для размышления, очень важно правильно понять для себя тот последний
этап представлений о судьбе, который мы находим в неоплатонизме. Но для этого
важно отчетливо представлять себе всю необходимость принципа судьбы для всей
античности. Античные люди, созерцавшие свой чувственно-материальный космос,
прекрасно видели в нем как идеальный и вечный порядок в движении небесного
свода, так и беспорядок и необыкновенную случайность, которую нельзя было
объяснить никаким разумом и которую называли судьбой.
В дофилософский период, то есть во времена господства абсолютной и
дорефлективной мифологии, судьба либо сливалась с общим представлением о
космосе, либо тоже трактовалась как одна из мифологических подробностей. Но
логический и структурный смысл судьбы был неумолимо прост и неумолимо повелителен.
2. Судьба до неоплатонизма. В период греческой философской классики,
когда в первую очередь фиксировалась объективная сторона действительности,
судьба, конечно, признавалась, но ей отводилось тоже соответствующее объективное
место. У Платона в его «Тимее» говорится не о судьбе, но о
“необходимости”, которая трактуется как объективно значащая
космологическая категория, вступающая в диалектическую связь с Умом, то есть с
миром идей для построения космоса в целом.
Впервые — и уже в качестве философски продуманной категории — судьба
выступает только в стоицизме. Поскольку субъективное самочувствие выдвигалось
здесь на первый план и в самом космосе подчеркивалось его субъективное
самочувствие, судьба выступила в особенно резкой форме, потому что примат разумного
субъективного самочувствия никак не мог иначе объяснять всю область случайного
и неразумного, наличную в космосе несмотря ни на какую его субъективно
прочувствованную разумность. Примат субъективной разумности был настолько
силен, что изначальная огненная пневма трактовалась у стоиков уже как некоего
рода провидение. Но, как мы видели выше, все неразумное и случайное, что
творилось в космосе, как раз и было приписано судьбе, так что стоицизм оказался
одновременно и провиденциализмом, и фатализмом.
Но и такое положение дел не могло в античности оставаться долго. Как мы
видели выше, представитель среднего эллинизма Посидоний стал трактовать
огненную пневму прежних стоиков как мир платоновских идей, почему его и
называют основателем стоического платонизма. У судьбы было отнято не только
разумное устроение космоса, но и его субстанция. И все же за судьбой осталось
преимущество, а именно определять собою единство и разумного и неразумного в
космосе. Оставалось и это единство трактовать чисто человеческим путем, чтобы
навсегда расстаться с принципом судьбы как с необъяснимым принципом всех
объяснений. Это и произошло в связи с неоплатоническим учением о Первоединстве.
3. Единое и судьба у неоплатоников. Во-первых, неоплатоническое
Первоединство было выше разума, поскольку оно было объявлено принципом как
всего разумного, так и всего неразумного. Уже по одному этому отпадала
необходимость отводить судьбе первостепенное место. Во-вторых, это
неоплатоническое Первоединство само было требованием не чего другого, как
именно в первую очередь самого же разума.
Подобно тому, как любая вещь несводима на ее отдельные свойства и разум
требует признать кроме этих свойств вещи еще наличие ее носителя, предрешающего
отдельные свойства вещи, точно так же и в космическом плане пришлось все
оформленное возглавить чем-то таким, что было уже выше всякой разумной формы и
выше всего неразумного. Другими словами, неоплатоническое сверхразумное
Первоединство оказалось требованием самого же разума. И наконец, в-третьих, у
неоплатоников возник еще и особый способ человеческого восхождения к этому
первоединому, основанный на интенсивно переживаемом субъективном восторге в
ощущениях этого высшего начала, то есть на таком сосредоточивании разумной
сферы, когда человек начинал представлять все бытие вообще в виде только одной
неделимой и потому сверхразумной точки.
4. Прокл о судьбе. Нам хотелось бы привести одно рассуждение Прокла,
представляющее собою подлинную и окончательную картину античного понимания
судьбы. У Прокла, как и у всех античных неоплатоников, сверхразумное
Первоединство, конечно, вмещает в себя все то, что в античности называлось
судьбой. Но это далеко еще не все. Поскольку сверхразумное Первоединство
пронизывает у неоплатоников все существующее, оно тем самым является не только
абстрактным принципом, но и реально ощущаемой структурой, то есть тем
распорядком, без которого немыслима ни сама разумная область, ни вся
подчиненная ей космическая область. По Проклу (Tim. III 272, 5 — 25), судьба
(heimarmene) не есть ни частная особенность вещей, ни общее следование
космических периодов, ни просто душа в ее соотношении с окружающим, ни просто
природа, ни просто разум всего. Судьба выше всех этих определений. С другой
стороны, однако, невозможно сказать также и то, что она есть просто нечто
надвещественное, надбытийное или надразумное. Судьба есть распорядок и
структура самих же вещей; но это не просто разум, а еще и нечто надразумное,
нечто божественное. Прокл весьма четко различает адрастию (неизбежность),
ананку (необходимость) и хеймармену (удел) (274, 15 — 17). Все эти три
категории трактуют, по Проклу, только об одном, а именно о структуре (taxis)
всего существующего.
Первая категория характеризует собой вечный распорядок всей ноуменальной
области и характеризуется Проклом как “интеллектуальный” момент.
Вторая категория уже выводит нас за пределы разума и заставляет характеризовать
ее как “надкосмическую”, то есть как такую, которая представляет собою
обобщение всей космической жизни. И наконец, свою третью категорию судьбы Прокл
именует как “внутрикосмическую”. Таким образом, то, что характерно
вообще для всех видов судьбы, по Проклу, — это распорядок вещей, структура
бытия. Эта структура имеет свою иерархию. Высшая ее ступень гласит о
необходимой последовательности в сфере чистой мысли, другая ступень — это
структура космоса вообще и третья — это структура всего, что фактически
совершается внутри космоса.
Таким образом, судьба — это и не разум, и не душа, и не космос, и не природа.
Это — нераздельное тождество разумного и внеразумного начала, но данное не
только в виде общего принципа, но и в виде структуры всего бытия, то есть в
виде художественной концепции.
5. Неуничтожимость для античности принципа судьбы как вообще
рабовладельческого принципа. Таким образом, понятие судьбы, собственно
говоря, никогда не исчезало в античной философии. Поскольку античная философия
всегда была основана на интуициях вещи, а не личности, то, как бы эта вещь ни
возвеличивалась, она все же оставляла причину и структуру своего оформления за
вневещественной и сверхразумной судьбой. Рабовладелец, как мы сказали выше, тоже
еще не есть личность, а только оформление безличных и неинициативных
людей-вещей. А это значит, что единство рабовладельцев и рабов тоже составляет
условие их существования, понимаемое внеличностно. Получилось так, что
предельное оформление единства рабовладельцев и рабов в виде
чувственно-материального космоса тоже требовало для себя запредельной судьбы, а
так как ничего запредельного для чувственно-материального космоса не
существовало и поскольку он сам основывался на себе же и сам же являлся для себя
своим собственным абсолютом (вещь всегда претендует быть единственным и
всеобщим абсолютом), постольку он оказывался судьбой самого же себя. Его
структура, разумная или случайная, и была для него его же собственной судьбой.
Поэтому судьба — это есть чисто рабовладельческая идея. Однако, когда была
пережита и вся объективная, и вся субъективная судьба чувственно-материального
космоса, сама собой возникла потребность понять весь этот объект и весь этот
субъект как нечто окончательно единое и неразложимое. Судьба осталась, но
неоплатоники нашли способ понимать и ощущать ее не как внешнее принуждение, но
как внутреннюю необходимость додумывать субъективное состояние философа до
логического конца. И как в конце античности остро восторжествовала вся та же
древняя и исконная мифология, но уже в рефлектированном виде, уже в виде
систематической диалектики мифа, точно так же в неоплатонизме восторжествовало
и общеантичное представление о судьбе, но уже в виде диалектически продуманной
и тщательно построенной системы.
Дальше этого античная философия никогда не пошла, и дальше предстояли
только ее упадок и гибель.
6. Фатализм и скульптурность. а) Есть, однако, обстоятельство,
которое для многих является отрицанием для античности всеобщего фатализма. Дело
в том, что античное искусство, и особенно в период своей классики, обычно
характеризуется как господство скульптурного примата. Классическое искусство
действительно прославилось на всю историю своей скульптурой, причем скульптурой
даже и не специально психологической. Все эти дорифоры и дискоболы изображают
только способ держания человеческим телом самого себя. Историки архитектуры
доказывают, что и колонны греческих храмов тоже строились по принципу структуры
человеческого тела. При чем же тут судьба и при чем тут внеразумный принцип,
если в искусстве на первый план выдвигается как раз нечто разумно построенное,
и притом как нечто сугубо человеческое, а именно не более и не менее как самое
обыкновенное человеческое тело? Вопрос этот, однако, является глубочайшим
недоразумением, которое обязательно должно быть рассеяно, если мы хотим понять
античный фатализм в его существе.
б) Дело в том, что мы ведь уже с самого начала выдвинули интуицию
вещественно-материального тела как исходную для всего античного мировоззрения.
Но такого рода тело может пониматься и само по себе, то есть как таковое, и в
своем становлении, когда оно вступает в ту или иную связь с другими телами.
Если тело рассматривается как таковое, то есть сравнивается с самим же собою,
то ясно, что при таком подходе к телу и к вещи обязательно фиксируется и
построение такой вещи; а так как в античности имелось в виду живое тело,
способное совершать целесообразную работу, то ясно, что человеческое тело и в
своем построении, и в своих целесообразных функциях всегда становилось
предметом пристального внимания. И если из этих интуиции целесообразно
построенного и целесообразно действующего человеческого тела должна была
возникать определенная общественно-историческая формация, то такой формацией,
очевидно, только и могло быть рабовладение, поскольку оно было основано на
понимании человека не как личности, но именно как вещи. Следовательно, ясной
становится и необходимость человечески-скульптурного принципа и для всего
античного искусства и для всего античного мировоззрения. Здесь было множество
исторических оттенков и усложнений, неизбежных для тысячелетнего существования
античной культуры; но в данном месте, конечно, нет ни возможности, ни
надобности входить во все эти исторические
детали[4].
в) Но всякая вещь существует не только сама по себе. Она еще движется,
меняется и, вообще говоря, становится. А это заставляет нас рассматривать
всякую данную вещь не только как самостоятельно существующую, но и как
связанную со всеми другими вещами. Но даже если мы возьмем все вообще
существующие вещи и получим чувственно-материальный космос, то и в этом случае
вопрос “почему?” необходимым образом потребует для себя ответа. А так
как ничего, кроме чувственно-материального космоса, не существует, то и все
разумное, что в нем существует, и все неразумное, чего в нем не меньше, чем
разумного порядка, все это объясняется только им же самим, находит причину в
нем же самом. А это и значит, что интуиция вещи, лишенная элементов личности,
обязательно приводит к признанию судьбы в космосе наряду с его разумным
построением.
г) Ко всему этому необходимо прибавить и то, что принцип разумной структуры,
противостоящей судьбе, имеет в античности еще и более широкое значение, когда
он относился не к вещи, но к человеческой области. Здесь этот принцип структуры
становился принципом героизма, и этот героизм тоже совпадал в античности
с фатализмом, как мы об этом говорили в другом месте. Настоящий, подлинный
античный герой не только не отрицал судьбу, но, наоборот, считал себя орудием
судьбы. Колебания в этом отношении стали возможными только в период разложения
классики и в послеклассический период.
д) Но отсюда сам собой вытекает вывод, что абсолютная скульптурность и
абсолютный фатализм обязательно предполагают одно другое. То и другое есть
результат отсутствия личностного мировоззрения. И поэтому все наши предыдущие
рассуждения об античном фатализме не только не исключают скульптурности
античного мировоззрения и античного мировоззрения искусства, но и обязательно
ее предполагают. Один примат фатализма без скульптурности характерен, может
быть, для каких-нибудь народов, стран и периодов Востока. Что же касается
принципа скульптурности без всякого фатализма, то такой принцип характерен,
может быть, только для новой и новейшей Европы, да и то скорее только в стилях
последовательного натурализма. В этом отношении античность обладает своей
самостоятельной и нерушимой спецификой, игнорировать которую никак невозможно
при современном развитии исторической науки.
ПАДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ
Афинский неоплатонизм был завершением всего античного неоплатонизма, а
вместе с тем и достойным окончанием всей античной философии. В дальнейшем мы
находим уже смешение разных философских тенденций, частичное совпадение с
небывалыми в античности христианскими принципами и даже вообще переход от
античной философии к средневековью. Поскольку, однако, вся эта эпоха была
весьма обширная, занимая, вообще говоря, первые несколько веков нашей эры, и
поскольку от этой эпохи дошло до нас огромное множество подлинных текстов,
постольку игнорировать всю эту эпоху падения и гибели античной философии
совершенно непозволительно с исторической точки зрения. Здесь прежде всего
обращаетна себя внимание особого рода эволюция самого неоплатонизма, уже
лишенного афинской чистоты, принципиальности и систематизма. С другой же
стороны, в связи с общей переходной эпохой истории и расцветом синкретизма
возникли не только неоплатонические, но и более общие философские установки,
свидетельствовавшие о падении и гибели античной философии.
§1. Дальнейшая эволюция неоплатонизма
Дальнейшая эволюция неоплатонизма создала две новые формы неоплатонизма, а
именно александрийскую и западную латинскую.
1. Александрийский неоплатонизм Симплиций и общие черты александрийцев.
а) Личная связь александрийских неоплатоников с афинскими общеизвестна, так что,
строго говоря, даже не очень легко назвать и основателя александрийского
неоплатонизма. Симплиций Киликийский был, с одной стороны, учеником Дамаския и
после разгрома Платоновской Академии отправился вместе с другими главнейшими
академиками в Персию. Но этот же Симплиций как раз и должен считаться если не
основателем александрийского неоплатонизма, то во всяком случае переходным
звеном от афинского неоплатонизма к александрийскому.
Вполне разделяя общее для всех неоплатоников убеждение в тождестве
философии Платона и Аристотеля, этот Симплиций тем не менее давал картину
неоплатонического Первоединства уже в сниженном виде. Он проповедовал это
единство не столько в его надмножественной сущности, сколько именно в виде
единства множественности.
б) В связи с Симплицием необходимо упомянуть еще три имени, связанные с
учредительством и восходящим характером александрийской школы. Это — имена
Гермия (ученика Сириана и сверстника Прокла), Аммония (сына Гермия и ученика
Прокла) и Гиерокла (ученика Плутарха, с ним мы встречались выше). Из-за
большого количества учеников, Аммония, пожалуй, можно считать подлинным
учредителем александрийцев. Его ученики: Асклепий, Феодот, Олимпиодор Младший —
и ученики Олимпиодора: Элий и Давид.
в) Общей чертой александрийского неоплатонизма является прежде всего
снижение отношения к платонической традиции, и в частности ослабленное внимание
к проблеме Первоединства. Далее, такой основной чертой всей этой школы
необходимо считать комментаторство и вообще ученость. Комментировали Платона и
Аристотеля, но особенно Аристотеля; в учености же они отличались интересом к
детальному анализу комментируемых текстов, а также и к естественным наукам. И
третьей основной чертой кроме сниженного платонизма и ученого комментаторства
необходимо считать возрастающий интерес к христианству, а это для строгого
языческого неоплатонизма было только признаком его шатания и падения.
г) Проникновение христианства в александрийский неоплатонизм, несомненно,
расшатывало всю основу и неоплатонизма, и античной философии вообще. У
платоников часто получалось так, что до демиурга существует бесформенная
материя, а деятельность демиурга состоит только в оформлении этой материи и в
приведении ее хаоса к благоустроенному космосу. Вот эту концепцию как раз и не
могли принимать христиане.
С точки зрения христиан, было бы большим снижением демиурга считать, что
кроме него изначально и предвечно существует еще и нечто другое, хотя бы и
бесформенное. С точки зрения христианства подлинный демиург — тот, который
создает не только оформленную структуру материи, но и самое материю. Другими
словами, демиург творит мир только из ничего.
Но с другой стороны, христианский демиург не может творить мир также из
самого себя, так как это было бы языческой эманацией, языческим пантеизмом и
непризнанием демиурга как абсолютной личности. Поэтому “ничто” для
христианства все же оказывалось необходимой категорией, поскольку это
“ничто” и было гарантией диалектической инаковости, в корне
исключавшей всякую языческую эманацию.
Имея все это в виду, мы теперь и должны сказать, что проникновение
креационизма (творение из ничего) и персонализма (то есть абсолютной личности
вместо внеличностного Первоединства) в корне разрушало всю языческую
пантеистическую основу. К этому необходимо прибавить еще и то что абсолютно
личностный характер христианского первоединства исключал в нем всякую
субстанциальную подчиненность одного момента другому, то есть всякую, как
теперь говорят, субординацию, поскольку абсолютная личность, какие бы различия
она в себе ни содержала, имеет все эти различные моменты сразу, в одно
мгновение и на всю вечность и даже раньше самой вечности. Поэтому не будет
ошибки, если мы скажем, что александрийский неоплатонизм был шатанием всей
языческой философии и кануном ее гибели.
2. То же. Синезий, Немезий, Филопон и Давид
(“Непобедимый”), а) Во всякой характеристике александрийского
неоплатонизма, претендующей на существенность, имя Синезия Птолемаидского (ок.
370 — 413) должно быть названо в первую очередь. Всецело преданный неоплатонизму
и даже уединенным философским созерцаниям, он в то же самое время был еще и
любителем всей античной поэзии и даже писал стихи.
С другой стороны, Синезий уже убежденный христианин и даже епископ. В эпоху
острых тринитарных споров он занял весьма критическую позицию в отношении
неоплатонической триады, в которой отрицал всякую субординацию и признавал все
три ипостаси как целиком равноправные и координированные.
б) Из Немезия Эмесского (IV — начало V в.) мы привели бы рассуждения о
судьбе, провидении, а также и о личности, как абсолютной, так и человеческой.
Решение этих проблем проводится в указанном у нас выше христианском смысле
идейных тенденций александрийцев.
в) Иоанн Филопон (V — начало VI в.) известен своими трактатами «О вечности
мира против Прокла» и «О сотворении мира». Однако считать его в идеологическом
отношении полноценным христианином тоже еще пока невозможно. Дело в том, что
его большие симпатии к Аристотелю в корне мешали создавать тринитарную
концепцию в духе строгой неоплатонической диалектики. Вместо трех ипостасей
единого божества у Филопона получилось нечто вроде учения о трех богах (это в
исторической науке сейчас называется тритеизмом). Та же самая аристотелевская
формальная логика помешала Филопону признавать христианскую диалектику
богочеловечества. Вместо того чтобы учить о совпадении в Христе и божества как
субстанции, и человека как субстанции, Филопон смог признать в Христе только
одну субстанцию, а именно божественную. Это — то, что сейчас в исторической
науке называется монофизитской ересью. Поэтому становится очевидным, что в лице
Филопона переживал свое падение не только языческий неоплатонизм, но и
христианство далеко не получало для себя своей существенной философской формы.
г) Из прочих александрийских неоплатоников упомянем только Давида, и именно
армянского философа Давида Анахта, ученика Олимпиодора Младшего, потому что в
те времена было несколько авторов с этим именем. Этот Давид обращает на себя
наше внимание не только своей высокой философской образованностью, но и
виртуозным умением разбираться в тонких философских проблемах. Поскольку в его
время многие основные проблемы христианской теологии уже были догматизированы,
Давид имел полную возможность, не входя в детали неоплатонической системы,
делать из нее разного рода тонкие и вполне самостоятельные выводы. И уже это
одно свидетельствует о веке прогрессирующего распадения античного неоплатонизма,
несмотря на оригинальность и тонкость всей античной философии эпохи ее падения.
Другую форму этого шатания и распадения мы находим в неоплатонизме
латинского Запада, который тоже был переходной эпохой от языческого
неоплатонизма к христианской догматической теологии.
3. Неоплатонизм латинского Запада. Основатели. а) Одним из самых
ранних представителей латинского неоплатонизма необходимо считать Корнелия
Лабеона (III в.), пытавшегося создать диалектику античной мифологии, однако уже
во главе с единым богом. Веттий Агорий Претекстат (IV в.), подобно Юлиану,
оказался теоретиком солнечного монотеизма. Некоторые считают его даже
представителем языческого возрождения, недолго просуществовавшего в IV в. среди
старинной римской аристократии.
б) Марий Викторин (IV в.), неоплатонический наставник Августина,
переводчик и комментатор Аристотеля и Порфирия, принявший христианство в
пожилом возрасте, писал против Ария и манихеев, комментировал послания ап.
Павла. Его историческое значение можно находить в том, что он одним из первых
стал сближать неоплатоническое, чисто аристотелевское первоединство с
христианской личностью единого бога, а также в попытках весьма интенсивного
характера рассматривать божество не в его изоляции от мира, но в его вечной
подвижности.
в) Августин (354 — 430) по праву считается основателем всей вообще
западной философии ввиду своего глубочайшего интереса к проблемам личности.
Самый термин “личность” (persona) введен в христианскую теологию
именно Августином. С этой точки зрения августиновское божество в своем
последнем основании даже выше трех ипостасей и есть не ипостась
(“подставка” для сущности, когда она проявляет себя в своей энергии).
Но зато это проявление непознаваемой сущности трактуется у Августина не только
личностно вообще, но даже человечески-личностно. Три ипостаси характеризуются у
него как память (memoria), интеллект (intellectus) и воля (voluntas). Кроме
того, воля и в человеческой жизни выдвигается у Августина на первый план.
С другой стороны, однако, это увлечение персонализмом и волюнтаризмом
доходит у Августина до того, что воля божья у него уже раз и навсегда
определяет собою судьбу мира и человека. Поэтому у Августина можно наблюдать
яркую тенденцию к фатализму, хотя реальные тексты Августина звучат на эту тему
гораздо сложнее.
4. То же. Продолжатели. Эти продолжатели, Халкидий и Макробий, в еще
большей степени свидетельствуют о переходной языческо-христианской эпохе,
представителями которой они являлись. Здесь все тот же IV век.
а) Халкидий прославился своим переводом платоновского «Тимея» и
комментарием этого знаменитого диалога. Переходный характер воззрений Халкидия
особенно сказывается в том, что он, будучи уже христианином, покамест еще
весьма далек от умения философски разобраться в новой религии. Отчасти это
зависело от того, что его воззрения носили еще доплотиновский характер и
развивались скорее в контексте предплотиновских, то есть поздних, платоников с
большой примесью стоического платонизма. По-христиански он уже глубоко осознал,
что материя не может существовать одновременно с демиургом и что демиург не
может ни с того ни с сего вдруг начать оформление этой бесформенной материи.
Материя предсуществует уже в самом божестве, поскольку, с точки зрения Халкидия,
все временное вообще обосновано в вечном. Тем не менее у Халкидия вовсе нет
учения о творении мира, откуда и вытекает, что материя и ее тварность
обоснованы у него каузативно, то есть в смысле идеальной причинности, но не
темпорально. Поэтому материя не только является, как у Аристотеля,
гипостазированной потенцией, но и предполагает индивидуальный творческий акт
божества, а о самом этом акте ничего не говорится. Точно так же судьбу он
(вполне в античном духе) отождествляет с провидением. Но в то время как
античные мыслители спокойно и невозмутимо созерцают трагические судьбы мира и
человека, Халкидий уже готов признать противоестественность мировых и
человеческих катастроф, хотя опять-таки у него совершенно отсутствует
христианская идеология первородного греха и необходимости его искупления.
б) Макробий (IV — V вв.) тоже является ярким образцом того латинского
неоплатонизма, на котором уже отразилось большое влияние возраставшего в те
времена христианства, но отразилось не везде уверенно. В смысле учения о трех
ипостасях и об их воплощении в космосе Макробия с полным правом можно считать
неоплатоником. Но этот неоплатонизм Макробия производит скорее только
формальное впечатление. По существу же ему совершенно чужда спокойная
уверенность неоплатонической концепции триады. Гораздо более ярко выражен у
него тот солнечный пантеизм, который мы встречаем у Юлиана и у Претекстата. Этот
Претекстат в «Сатурналиях» Макробия как раз и произносит горячую речь в защиту
солнечного монотеизма, причем речь Претекстата и самого Претекстата Макробий
рисует не только в сочувственных, но и в возвышенных тонах. Такой же попыткой
связать языческий пантеизм с христианским монотеизмом является и учение
Макробия о душе, которая, с одной стороны, имеет такую же судьбу, как и падение
душ в «Федре» Платона (по закону судьбы), а с другой стороны, настолько ярко
переживается Макробием как самостоятельная личность, что он прямо именует ее
богом. В языческой античной философии душа выше всего ставилась у Платона и в
неоплатонизме, и в ней находили в те времена божественную природу. Но никто из
античных философов не называл человеческую душу богом. И если Макробий ее так
называет, то это у него является только бессильной попыткой толковать и выразить
человеческую душу как личность.
5. То же. Завершители. Скажем с самого начала: завершительство здесь
надо понимать не в смысле расцвета, но в смысле ослабления, падения и даже конца
неоплатонизма.
а) К IV в. относится любопытнейшее произведение мало известного нам
Марциана Капеллы под названием «О браке Филологии и Меркурия». Филология
здесь изображена в виде прекрасной женщины, с которой вступает в брак Меркурий,
согласно разрешению на это богов. На свадьбе выступают семь ораторов, которые
являются олицетворением семи античных наук, — Тривия в лице Грамматики,
Диалектики и Риторики, а также Квадривия в лице Арифметики, Геометрии,
Астрономии и Гармонии (под Гармонией здесь понимается музыка, включая гармонию
небесных сфер).
Что касается неоплатонизма, то в этом трактате он обнаруживает себя на
ступени своего разложения. Отдельные и разбросанные места по поводу трех
основных неоплатонических ипостасей в трактате попадаются, но сделать из них
общие выводы трудно. У Марциана Капеллы не только нет диалектики мифа
(мифология здесь преподносится вообще в юмористических тонах), но даже нет и
никакой неоплатонической диалектики. Под диалектикой здесь понимается не что
иное, как аристотелевская формальная логика. Кроме того, во всем этом трактате
вообще сквозит некоторого рода юмористика, нарушающая общую серьезную картину.
А главное, упомянутые семь ораторов, объясняющие существо соответствующих наук,
выступают с довольно скучными и абстрактными речами, так что находится даже
персонаж, требующий прекращения этих речей.
Но как раз вся эта юмористика и выражает для нас большую историческую
значимость данного трактата. Что отношение к языческим богам часто отличается
здесь юмористикой, это определенно говорит о том, что времена серьезной
мифологии для Марциана Капеллы давно миновали. Тем не менее автор явно хочет
показать, что языческая античность очень многого достигла и, в частности, что
семь античных наук являются безусловным достижением и Марциан Капелла как бы
завещает эти науки наступающему средневековью. Средневековье действительно
сохранило эти науки навсегда и старалось их всячески развить.
Таким образом, переходный характер трактата Марциана Капеллы выражен очень
ярко, и с культурно-исторической точки зрения трактат этот может считаться
выдающимся произведением.
б) Боэций (480 — 525) — замечательная фигура последних лет античности
и в отношении своей жизненной судьбы, и в отношении мировоззрения. Судьба его
была трагическая: он был казнен Теодорихом из-за клеветнических доносов о его
государственной измене. Но и его мировоззрение тоже заслуживает нашего
специального внимания.
Неоплатонизма в собственном смысле слова у него, можно сказать, почти и
незаметно. Он все время ссылается на Платона и Аристотеля, но не на
представителей греческого неоплатонизма. О первой ипостаси у него нет и помина.
Что же касается второй и третьей неоплатонической ипостаси, то отзвуки этой
диалектики вполне можно находить у Боэция, но только по преимуществу в
христологических трактатах. Прославился же Боэций не своим неоплатонизмом, но
своей предсмертной философией. Находясь в тюрьме и ожидая своей казни, Боэций
написал трактат «Об утешении Философии», который изображает Философию в виде
мудрой и прекрасной женщины, являющейся к нему в целях утешения.
Формально Боэций является христианином и даже пишет богословские трактаты в
связи с тогдашними ересями. Однако интереснее всего то, что его утешает не
Христос, не Богородица и вообще не церковь, но утешает то, что он сам называет
разумом, вечными идеями вселенского разума. Другими словами, Боэций утешается
теоретическим платонизмом, который в значительной мере осложнен еще
аристотелизмом. Это нельзя назвать христианским утешением.
С другой стороны, однако, назвать его мировоззрение языческим тоже
невозможно Ведь языческие философы утешались временным характером мировых
катастроф, уповая на вечную смену хаоса и космоса. Приписать такого рода
утешение Боэцию никак нельзя. Он слишком трагически и слишком сердечно
переживает и свои страдания, и вообще несчастия человеческой жизни. Тут бы,
казалось, ему и надо было обращаться к абсолютной личности, которая как
личность только и могла бы понять его страдальческую судьбу. Однако у Боэция
нет ничего подобного. За утешением он обращается к безличному платоническому
разуму. Точно так же его личные страдания, хотя они и очень велики, вовсе не
доходят до признания общечеловеческого мирового грехопадения. Поэтому и вся
личная трагедия Боэция переживается им вовсе не как результат космического
греха, но как результат более или менее случайного стечения событий. И такая
позиция тоже не способствует признанию абсолютного персонализма вместо
платоновского безличного пантеизма.
Такая яркая картина духовного состояния Боэция, как это видно из
сказанного, тоже отличается с культурно-исторической точки зрения переходным
характером: личный опыт трагедии жизни у Боэция не по-язычески глубок; но
Боэций находит для себя выход в теоретическом платонизме, то есть в такой
философии, которая и в своей глубине, и в своих внешних формах отличается
природно-космическим, но никак не личностным характером. Западный латинский
неоплатонизм, можно сказать, почти прекратил свое существование, но он не был
заменен ни строгими системами языческого неоплатонизма типа Плотина или Прокла,
ни персоналистическим неоплатонизмом христианского тринита-ризма на Востоке.
§2. Общефилософские направления в связи с веком синкретизма
Изучая последние века античной философии, мы находим ряд направлений, которые
прямо связаны с веком синкретизма. Правда, уже и история последних типов
неоплатонизма достаточно свидетельствовала о переходной эпохе между язычеством и
христианством. Однако в то время были еще и другие течения мысли, не связанные с
неоплатонизмом, но отражавшие собою смешение язычества и христианства,
приводившее и к искажению язычества, и к неумению философски осознать
христианство. И дело здесь вовсе не в возрастании мистической практики,
поскольку возрастание это было и в самом строго языческом неоплатонизме. Новое
здесь заключалось именно в нарушении самого принципа языческой философии, то
есть в неумении справиться с ее пантеизмом.
Вместо материально-чувственного космоса как абсолюта возник опыт личности
как абсолюта. И вот эта, часто беспорядочная смесь космологизма и персонализма
как раз и стала характеризовать собою целую эпоху — это первые века новой эры,
— которая в самой своей последней глубине оказывалась смесью двух культур и
переходом от язычества к христианству.
1. Халдаизм. а) В первые века нашей эры большим распространением
пользовалась так называемая халдейская литература, представлявшая собою именно
такую плохо продуманную смесь языческо-христианских воззрений. С тем народом на
Востоке, который назывался халдеями, эта литература связана только по названию.
Дело в том, что во времена возраставшего магизма было модой пользоваться
разного рода неантичными религиозными представлениями, открывавшими доступ к
магической практике. Поэтому произведения, которые цитируются неоплатониками
под названием «Халдейские оракулы», имеют только условное наименование. И вообще
у современных исследователей создается аберрация, согласно которой известные
античные платоники очень много заимствовали в этом халдаизме. На самом же деле
эта “халдейская” философия в теоретическом отношении настолько слаба и
противоречива, что вовсе не известные платоники учились у халдеев, а, наоборот,
халдейские авторы учились у неоплатоников. Самим же античным неоплатоникам, у
которых теория и система были на огромной высоте, вовсе не было нужды в каких-то
халдейских или египетских представлениях. Им импонировала только халдейская
магическая практика, а та слабая теория, которая была свойственна халдаизму,
была бледным подражанием грандиозным античным системам неоплатонизма.
б) Если коснуться халдейской философской теории, то во главу всего она
ставит какого-то “отца”, о котором неизвестно, был ли он личностью,
или это был огонь, которым тоже характеризовался этот отец.
в) Далее, этот отец составлял триаду вместе с “потенцией” и
“демиургом”. Что это за потенция, понять трудно. С одной стороны, она
трактуется как переходное звено между отцом и демиургом. С другой стороны, это
душа и даже Геката. При чем тут это древнегреческое хтоническое божество,
сказать трудно. Функции демиурга тоже не очень отчетливые. Он именуется, между
прочим, вторым богом; и он творит мир, но в этом творении не чувствуется
никакого личного начала, и, кроме того, этот демиург творил мир и у античных
философов. Христианского творения здесь ни в каком случае нельзя ожидать потому,
что здесь нет того небытия, того “ничто”, которое было бы
противоположно личности и из которого божественная личность творила бы мир как
именно из ничего.
г) Смешение космологизма и персонализма проявляется у халдеев еще и в
проблеме добра и зла. С одной стороны, чувство зла как будто бы достаточно
сильно в халдаизме. С другой стороны, однако, здесь нет никакого и намека на
теорию первородного греха и на теорию божественного вмешательства в
человеческую жизнь для спасения человеческих душ. Эти души, почему-то отпавшие
от бога (почему, неизвестно), довольно легко опять возвращаются в отцовское
лоно. Путаница между пантеизмом, в котором добро и зло — одной природы, и
дуализмом с его вечной несовместимостью добра и зла здесь налицо.
Других, более частных проблем халдейской философии здесь касаться нам не
стоит[5].
2. Сивиллины оракулы. Имя “Сивилла” было скорее
нарицательным, чем собственным именем. Древность знала многих Сивилл; они были
известны своими пророчествами о будущем и действовали в русле религии Аполлона.
Наиболее богатое собрание сивиллиных изречений было в Риме, но оно погибло в 83
г. до н. э. от пожара. Известно, что некоторые крупные тогдашние деятели, и
среди них Цезарь, под именем сивиллиных пророчеств составляли разного рода
предсказания в свою пользу. Император Август приказал исследовать все эти
пророчества, и многие из них были уничтожены. Но до нас все же дошел целый
трактат на греческом языке под названием «Сивиллины предсказания» в XIV книгах.
а) Содержание этого трактата весьма пестрое. Однако надо считать несомненным
то, что здесь мы имеем дело со смесью разного рода языческих, иудейских и
христианских воззрений и вообще с яркой картиной довольно хаотического
синкретизма, характерного для последних времен язычества. Этот сборник
сивиллиных пророчеств был составлен в начале византийской эпохи, но потом
дополнялся и расширялся, включая самые разнородные элементы.
б) В качестве памятника идеологического распадения языческого мира этот
сборник Сивиллиных оракулов имеет весьма немаловажное значение.
Черты ортодоксального христианства здесь налицо; но они не выдвинуты на
первый план, почему и Отцы церкви старательно избегали цитировать памятник. В
сивиллином оракуле проповедуется мировой пожар, но не в смысле языческих
периодических пожаров. В гибели мира участвует не только земля, но и звезды.
Будущая блаженная жизнь мыслится как уравнение богатых и бедных, а император
Нерон в конце времен выступит в качестве Антихриста. Все подобного рода черты
являются либо христианскими, либо навеянными христианством.
Но в этом памятнике в развитой форме нет одного, и самого главного,
христианского принципа, а именно богочеловечества Христа. Говорится о том, что
Христос — сын божий, что он является орудием божества при творении мира и что
он будет спасителем мира. Мало того. Имеются даже тексты о непорочном зачатии
Христа Девой Марией. Собственно говоря, это уже определенным образом есть
учение о богочеловечестве Христа. И тем не менее все подобного рода тексты,
прямо можно сказать, тонут в общей внехристианской картине мира.
Вот почему этот памятник не был популярен среди Отцов церкви; и вот почему
он для нас — только памятник смешения разнородных религиозно-философских идей,
характерных для эпохи возрастающего развала всей античной идеологии.
3. Герметизм. а) С первых веков новой эры, если еще не раньше того, в
греческой литературе стали появляться небольшие трактаты, в которых главную роль
играл Гермес — то ли в виде автора этих трактатов, то есть в виде реального
человека, то ли в виде источника новой мудрости и уже не человека, но бога.
Этот Гермес трактовался в самом близком отношении к египетскому богу Тоту,
который уже и в самом Египте считался основателем письменности, счисления и
вообще наук и искусств.
Следовательно, уже в начале нашей эры стала вызывать большое восхищение
именно интеллектуальная сторона древнегреческого Гермеса. Тут возникла весьма
обширная литература “герметического” содержания, которая в
современной науке так и называется — “герметический корпус”.
Из огромного и весьма сложного содержания этого герметического корпуса мы
здесь укажем только на одну идею, весьма характерную для всей этой
противоречивой эпохи синкретизма, который, идя к гибели, пытался совместить
несовместимое.
б) Именно, чтобы терминологически зафиксировать историческую специфику
герметизма, его, очевидно, необходимо назвать персонализмом, то есть
учением об абсолютной личности, которая выше всего существующего, а значит,
выше и мира, и человека. Тут же, однако, выясняется и другая сторона дела.
Единое и вполне личностное божество вовлекается в свои же собственные создания
и начинает действовать в них уже не как абсолютная личность, но как личность
ограниченная, частичная и условная. Она принимает на себя все человеческие
черты, и при этом не только положительные, но и отрицательные. Такой
персонализм удобно будет назвать натуралистическим.
Христианство не было таким натуралистическим персонализмом потому, что его
учение о богочеловечестве признавало такое воплощение божества в человеке,
которое сохраняло в нетронутом виде как субстанцию бога, так и субстанцию
материи. Герметизм же не дошел до такого высокого представления о материи,
чтобы она могла вместить субстанцию божества в нетронутом виде. Эта субстанция
божества воплощалась здесь несовершенно, с принятием в себя всех несовершенств
материи. Поэтому креационизм и не выступал здесь во всей своей несовместимости
с эманатизмом, то есть пантеизмом.
Таким образом, историческая специфика герметизма заключается в борьбе
абсолютного и натуралистического персонализма. Это самое общее, что необходимо
сказать об исторической специфике герметизма. Деталей здесь было, конечно,
очень много. Но в приведенной нами сейчас общей формуле исторической специфики
герметизма касаться всех этих деталей в настоящем кратком очерке нет
необходимости.
§3. Гностицизм
Самым глубоким, самым разносторонним и исторически наиболее интересным
явлением упорного синкретизма первых веков новой эры был гностицизм.
1. Общая характеристика. а) Гностицизм (от греч. “gnosticos”
— “познавательный”) — это религиозно-философское учение, возникшее в
I — II вв. на почве объединения христианских идей о божественном воплощении в
целях искупления, иудейского монотеизма и пантеистических построений языческих
религий — античных, вавилонских, персидских, египетских и индийских. Важнейшей
исторической предпосылкой этого синкретизма явилось проникновение римского
владычества на Восток и установление экономических и культурных связей с
отдаленными восточными частями империи. Гностицизм явился формой связи новой,
христианской религии с мифологией и философией эллинизма. Поскольку сочинения
гностиков уничтожались христианами, источником изучения гностицизма являются
отдельные высказывания гностиков, приводимые в сочинениях враждебных гностицизму
христианских богословов. Кроме того, после второй мировой войны в Наг-Хаммади в
Египте был найден большой архив гностических текстов.
б) В основе гностицизма лежит мистическое учение о знании, достигаемом
посредством откровения и тем самым указывающем человеку путь к спасению.
Гностицизм учил о сокровенной и непознаваемой сущности первоначала,
проявляющего себя в эманациях — эонах. Этим эманациям противостоит
материя, источником которой является демиург — особое творческое начало,
лишенное, однако, божественной полноты и совершенства. Борьбе греховной,
отягощенной злом материи с божественными проявлениями гностики посвящали целые
трактаты мистико-мифологического и философского характера, носившие
дуалистическую форму.
Учению о мировом процессе соответствует и этическая система
гностицизма, согласно которой задачей человеческого духа является искупление,
достижение спасения, стремление вырваться из уз греховного материального мира.
Эти цели достигались у гностиков посредством специфического философского
познания, для чего гностики организовывали аскетические союзы, философские
школы, религиозные общины и т. д.
в) Одной из ранних сект гностицизма являются офиты, то есть
поклонники библейского змия, учение которых представляет хаотическую смесь
мифологических и религиозных представлений (например, подвигов Геракла и учения
об ангелах). Гораздо яснее гностические системы Василида (из Сирии) и Валентина
(из Египта). Ко II в. относятся менее крупные гностики: Карпократ
Александрийский, Сатурнил (или Саторнил) из Сирии, Маркион из Понта и др.
Христианская церковь выступила против недопустимого с ее точки зрения
совмещения евангельской священной истории с языческим пантеизмом и мифологией.
Во II в. гностицизм был побежден христианством и в дальнейшем продолжал
существовать только в виде малозначащих и непопулярных сект и направлений.
2. Василид и Валентин. а) Вместе с Валентином (о нем дальше)
Василид — это крупнейший представитель гностицизма II в. — был родом из
Сирии, жил в Антиохии, Александрии, Персии. Его учение тоже начиналось с теории
непознаваемых глубин и полноты бытия. Из этой полноты — плеромы — путем
излияния образуется множество разного рода мифологических существ, возникают
небо и многие персонажи христианского вероучения. Таким образом языческий
пантеизм тоже отождествлялся здесь с христианством. Путем целого ряда
космических переворотов преодолевается зло, возникшее в результате отдаления от
полноты, и торжествует вечная истина полноты. Поэтому, возвращаясь в глубины
полноты, проистекшие из нее и вполне познаваемые эманации оказываются символами
исходной непознаваемой полноты и потому превращают ее уже в нечто познаваемое.
В этом и заключается значение того знания — гносиса, по которому и свою
философию гностики называли гностицизмом.
б) Самым крупным представителем гностицизма является Валентин, не
только совместивший в своей философской системе античные и христианские идеи,
но и создавший прямо-таки грандиозную философскую поэму миротворения, не
сводимую ни к античности, ни к христианству. Согласно системе Валентина,
причина возникновения мира заключается в том, что последний из божественных
эонов, то есть из тех двадцати восьми полулогических категорий,
полумифологических существ, из которых состоит божественная область (плерома),
по Валентину, а именно зон София, согрешила против отца, желая нарушить всю
божественную субординацию, за что и была изгнана из плеромы. В дальнейшем
развертывается подробнейшая картина того, как грусть и слезы тоскующей по
плероме Софии материализовались в небо и землю, как были созданы люди, среди
которых выделяются гностики, то есть люди, изначально предназначенные к
спасению. В конце концов София вместе с гностиками добивается с помощью Иисуса
Христа, посланного Отцом с благостной вестью о грядущем прощении Софии,
прощения у Отца и допускается назад в плерому, а материальный мир, созданный из
печали Софии, сгорает в огне. Цель истории мира — прощение Софии — достигнута,
история мира завершилась.
3. Гностическая София. В кратком очерке нет никакой возможности
излагать и анализировать те бесконечно разнообразные и противоречивые
философские, религиозные и мифологические концепции, из которых состоит
многовековой античный гностицизм. Однако через весь гностицизм проходит один
замечательный образ, в котором не только запечатлена вся противоречивая
языческо-христианская сущность, но дается еще и целая космическая поэма, в
которой не по-христиански согрешившее божество пытается христианским способом
вернуть свою абсолютно-персоналистическую чистоту. Это — образ Софии.
а) Первый такой этап космической поэмы — это та валентиновская София,
которая чисто человечески захотела иметь общение с Отцом при игнорировании всех
отделяющих ее от Отца ступеней функционирования исходного отчего начала. В этом
сказалась ее человеческая гордыня. Но поскольку София в этом кается, здесь
можно находить только начальную степень отхождения от чистого персонализма.
б) Второй этап отхождения от принципиального монотеизма заключается в
том, что София отвергает предназначенного ей плеромой супруга и сама из себя
творит такую мысль, которая и оказывается основой ее миротворения. Здесь уже
два греха — рождение из себя самой идеи мира и творение мира по законам этой
произвольно созданной идеи. Конечно, в конце концов София кается и в этих своих
прегрешениях. Все же, однако, здесь перед нами еще более значительный грех
Софии, чем ее гордыня внутри плеромы.
в) Третий этап отхождения Софии от абсолютного персонализма — это
создание не только мира, но и тех движущих принципов этого мира, которые уже
прямо равняют себя с абсолютным божеством. Здесь перед нами возникает такой
чудовищный образ, как Ялдабаот, который хотя и является сыном Софии, но уже
открыто творит зло в мире, включая дьявола, и объявляет себя единственным
истинным богом. София и здесь ведет себя по-человечески противоречиво. Она
чувствует ужас от сотворенного ею Ялдабаота и всячески старается бороться с его
чудовищным своеволием. Правда, здесь оказывается уже мало простого раскаяния, а
становится необходимым действенное искупление сотворенного Софией зла.
Это искупление тоже происходит не сразу. Сначала София внушает Ялдабаоту
необходимость вдохнуть в созданного им человека дух божественной жизни и тем
самым лишает Ялдабаота этого духа. Тут тоже перед нами картина чересчур уж
человеческого поведения Софии, прибегающей к искуплению греха при помощи обмана
Ялдабаота. И тут же другая нелепость, не только с точки зрения применения чисто
человеческих способов борьбы, но и с точки зрения абсолютного персонализма,
поскольку Ялдабаот, лишивший себя божественного духа, превращается уже в чисто
злое начало, которое в дальнейшем должно погибнуть бесследно.
Но София и здесь, при всех своих человеческих слабостях и несовершенствах,
все же достигает того, что человек, ставший теперь центром творения,
умозрительно просвещается явлением Иисуса Христа и тем самым становится
окончательным завершением уже самой плеромы. Это и становится последним и
окончательным искуплением первоначального греха Софии и последним ее
раскаянием, поскольку исторгнутая грехом Софии божественная часть плеромы после
своих долгих странствий возвращается здесь в лоно первоначальной плеромы в виде
спасенных душ пневматиков.
г) Наконец, к четвертому этапу в развитии образа Софии мы должны
отнести ту Софию, которая не только руководит земными делами, но и сама лично в
них участвует. И здесь тоже две ступени.
Одна такая ступень изображает нам Софию, находящуюся в такой степени
человеческого несовершенства, что трактуется прямо как публичная женщина. Но у
Симона Мага эта женщина все-таки вырывается из своей блудной жизни, осознает
свое божественное происхождение, раскаивается и при помощи одного великого
человека опять начинает функционировать в своем исходном и уже безгрешном виде.
Правда, здесь не столько София спасает пневматиков и тем искупает свой грех,
сколько один великий пневматик спасает Софию и водворяет ее на ее
первоначальном месте.
Другие ступени человеческого пленения Софии — это уже окончательное и
бесповоротное пленение, когда София оказывается не просто временно согрешающей,
но вечным покровителем человеческого грехопадения. В этом смысле удивительны те
материалы, которые мы имеем о секте каинитов. Первым учеником и апостолом Софии
явился Каин, убийца Авеля, а затем и тот Иуда, который был предателем Христа.
Здесь крайняя ступень отпадения Софии от своей божественной сущности, которая
не только не является принципом зла, но и вообще выше всякого добра и зла.
Таким образом, гностическая София проходит все стадии развития, начиная от
чистой божественности, когда первозданная и светлая материя субстанциально
утверждается в личности Христа вместе с его божественной субстанцией, и кончая
поглощением этой чистой божественности злой материей и тем самым вечным
самоутверждением этой злой воли в его полном единстве с чисто человеческими
несовершенствами.
д) Указанные нами здесь четыре этапа в развитии образа Софии могут найти
свое подтверждение в трактате II 5 — «О происхождении мира», входящем в состав
библиотеки Наг-Хаммади.
Более глубокого и более яркого образа безнадежных исканий совместить
язычество и христианство, чем образ Софии, невозможно себе и представить.
Умирающее язычество испытывало здесь буквально последние судороги перед лицом
восходящего христианства, и судороги эти, занявшие собою не менее трех
столетий, могли кончиться только гибелью всей языческой идеологии. Но есть еще
два момента, которые во всем гностицизме ярче всего рисовали наступающую гибель
всей языческой античности.
4. Докетизм и либертинизм. а) В самом деле, где же в античности мы
найдем учение о мире как о чистой кажимости, лишенной решительно всякого
объективного обоснования? Даже с точки зрения крайних идеалистов античности,
материя никогда не признавалась просто отсутствующей и просто несуществующей.
Она, конечно, всегда существовала; и весь античный идеализм только к тому и
сводился, чтобы не считать материю чем-то единственно существующим, но
обязательно чем-то таким, что для преодоления своего бесформенного существования
требует существования также еще и принципов оформления. В гностицизме же прямо
объявлялось, что материя есть только субъективное представление Софии,
объективация ее страстей, которую она имеет только в порядке своего
грехопадения. И как только происходит раскаяние Софии в этом ее грехопадении,
материя тотчас же исчезает, и исчезает навсегда.
Таким образом, учение гностиков о материи есть чистейший иллюзионизм. И у
историков философии для этого имеется специальный термин: “докетизм”
— от греческого слова “dосео”, что значит “кажусь”. Этот
докетизм для античной философии и для всей античной эстетики есть свидетельство
их гибели. Даже античные скептики вовсе не отрицали существования материи. Они
только признавали, что можно доказывать как ее существование, так и ее
несуществование. Но под этим крылось ощущение непрерывно становящейся материи,
не допускающей никаких прерывных оформлений. Это — не докетизм, но только
скептицизм, отказ не от материи, но только от объективно значащих суждений о
ней. У гностиков же учение о чистой кажимости материи не скептическое, но
абсолютно догматическое в своем отрицании существования материи. Это — гибель
античной мысли.
б) Другое, не только очень важное, но прямо-таки чудовищное, свидетельство
гибели античной мысли — это проповедуемый у многих гностиков либертинизм
(от латинского слова “libertas” — “свобода”). Этот
либертинизм проповедовал полную свободу морали от каких бы то ни было принципов,
теорий, запретов и даже вообще мировоззрения. Считалось так, что если задача
гностиков есть достижение знания, а знание о вещах само вовсе еще не есть вещь,
то, следовательно, тот, кто обладает знанием, тем самым свободен от подчинения
вещам, а значит, и от подчинения каким бы то ни было запретам, от подчинения
каким бы то ни было объективным установкам действительности.
Епифаний (XXIV 3) прямо утверждает, что знаменитый гностик Василид
проповедовал открытый разврат. Ириней (I 13) пишет об аморальном поведении
другого известного гностика — Марка. Имеется также совместное свидетельство
Епифания (XXVII 4) и Иринея (I 25, 4) о либертинизме Карпократа. Но и без этих
совершенно недвусмысленных свидетельств либертинизм яснейшим образом вытекает
уже из первичных основ гностицизма, поскольку все софийное творение трактуется
здесь одновременно и существующим вне бога, и несущим в себе все
персоналистические функции, которые являются его оправданием. И гносис,
оторванный от материи и ей противостоящий, тоже только оправдывает
самостоятельную стихию материи, правда временную. Гностику, можно сказать, нет
дела до материи. А это оправдывает любую стихийность материи.
Докетизм и либертинизм гностиков — это чудовищные символы всей античной
философско-эсте тической гибели.
КРАТЧАЙШАЯ СВОДКА
1. Дорефлективная мифология. Античная культура уходит своими корнями
в общинно-родовую формацию, которая, перенося на природу и мир наиболее
понятные в те времена кровнородственные отношения, представляла себе также и
всю природу, и весь мир в виде универсальной общинно-родовой формации. Такое
мировоззрение и было тем, что теперь называется мифологией.
2. Рефлексия мифа. Наступление с развалом общинно-родовой формации
нового общественно-экономического и культурно-исторического этапа, а именно
рабовладения, привело к необходимости разделять умственный и физический труд,
поскольку такое разделение создавало новые жизненные возможности, для которых
первобытный стихийный коллективизм был уже недостаточен. А с разделением
умственного и физического труда появилось и такое общество, в котором одни
занимались умственным трудом и не работали физически, а другие работали
физически и не занимались умственным трудом. А это и было разделением
рабовладельцев и рабов. Отсюда начиная с VI в. до н. э. и кончая VI в. н. э.
вся античная философия оказалась достоянием рабовладельческой культуры.
Фактически это означало, что вся античная философия оказалась не мифологией, но
рефлексией в отношении мифа с неизбежным в таких условиях выдвижением вместо
цельного мифа какой-нибудь той или другой его рефлективно формулируемой стороны.
3. Классика. Поскольку миф, трактуя о всем существующем как о сфере
живых существ, не различал в этих существах отдельно их объективного
существования и отдельно их субъективной жизни, то первая же рефлексия в
отношении мифа приводила к различению в нем объекта и субъекта. Отсюда первый
период античной философии (VI — IV вв. до н. э.) трактовал старый
чувственно-материальный космос по преимуществу как объект.
В ранней классике (VI — V вв. до н. э.) чувственно-материальный
космос трактовался интуитивно, в виде системы физических элементов (так
называемая досократовская философия). В средней классике он трактовался
дискурсивно — в виде искания надэлементных общностей (софисты и Сократ).
В зрелой и высокой классике он трактовался диалектически и
общекосмологически — в виде категориальной системы иерархических уровней
(Платон). И наконец, в поздней классике чувственно-материальный космос
трактовался не категориально-диалектически, как у Платона, но энергийно
и дистинктивно-дескриптивно — в виде учения об Уме-перводвигателе как о пределе
всех чувственно-элементных оформлений (Аристотель).
4. Ранний эллинизм (IV — I вв. до н. э.) рассматривает
чувственно-материальный космос (в противоположность классике) уже как
субъект, то есть как субъективно-самоощущающий, но все тот же
чувственно-материальный космос, или как универсальный организм. Такова
огненная пневма стоиков, становлением которой являются все уровни
космической жизни и которая (как субъект) является
провиденциально-фаталистическим принципом. Провиденциализм стал
разрабатываться здесь потому, что чувственно-материальный космос трактовался
теперь уже не как только объект, но и как субъект. А поскольку субъект этот был
пока еще недостаточно мощным, он определял собою только структуру космоса, а не
его субстанцию, которую пришлось оставить за судьбой и тем самым проповедовать
фатализм. Этот самодовлеющий организм принял у эпикурейцев чисто
человеческое понимание, а в скептицизме подвергся критике, но опять-таки
ради охраны субъективно-человеческого самочувствия и безмятежности.
5. Средний эллинизм (I в. до н. э. — II в. н. э.) находит
недостаточным огненный пневматизм стоиков и начинает понимать источник
космического организма — огненную пневму — как платоновский мир идей. Тем самым
существенную эволюцию претерпело и понятие судьбы. Стоикам пришлось
оставить судьбу как принцип всех абсолютных объяснений, поскольку, как сказано
выше, их космический организм создавал только рисунок космоса, а не его
субстанцию в целом. Когда представитель среднего эллинизма Посидоний (I в. до н.
э.) стал трактовать огненную пневму как мир идей, у судьбы уже была отнята та
ее существенная сторона, благодаря которой она определяла собою субстанцию
космоса. Однако космос был не только субстанцией и не только ее органическим
рисунком, но и носителем всех космических судеб, тем первоединством, которое
было уже выше и субстанции космоса, и его оформления. А это привело уже к
неоплатонизму, то есть к позднему эллинизму.
6. Поздний эллинизм (III — VI вв. н. э.). Неоплатонизм и зародился
как учение о таком первоедином, которое выше и тела космоса, и его души, и его
ума. Простейшая идея такого первоединого заключается в том, что ведь в каждой
обыкновенной вещи ни одно из составляющих ее качеств не есть она сама. Она сама,
эта реальная вещь, есть единый носитель всех своих качеств и свойств и не есть
ни какое-нибудь одно из них, ни их сумма, потому что иначе все эти качества и
свойства ни к чему не будут относиться и сама вещь рассыплется на дискретные и
не имеющие никакого отношения одна к другой части или новые вещи. Но тогда
признание сверхкачественного носителя всех качеств вещи есть необходимое
требование разума, а так как качества вещи, не будучи самой вещью, все же
неотделимы от нее и так как сама вещь, как носитель своих качеств, неотделима
от этих последних, то ясно, что объединение сверхкачественного носителя вещи и
всех ее качеств в одно целое для теоретической мысли возможно только в
результате применения диалектического метода. Отсюда и учение Плотина о таком
теле чувственно-материального космоса, которое движимо своей собственной душой,
направляемо в своем оформлении при помощи умственных категорий или ума в целом
и, наконец, является неделимой и сверхлогической единичностью, то есть
последним носителем всех космических оформлений. Другими словами, на очереди
оказалась диалектика мифа, поскольку миф как единичное живое существо и
есть прежде всего тождество тела и души, данное в виде целесообразно
действующего живого существа.
У Плотина (III в. н. э.) эта диалектика была разработана в самом
тщательном и, можно сказать, виртуозном виде. Но прямых мифологических выводов
Плотин пока не делает, так что его философия осталась на стадии
конструктивной диалектики мифа, без проведения самой мифологии в
систематическом виде. Ученик Плотина Порфирий в противоположность своему
учителю уже использует религиозную практику с ее оракулами, теургизмом и вообще
мистикой, но старается относиться к ней критически, почему его неоплатонизм и
можно назвать регулятивно-теургическим. В сирийском (Ямвлих) и
пергамском (Саллюстий, Юлиан) неоплатонизме описательное и регулятивное
отношение к мифологии и к мифологической практике, то есть к теургизму,
заменяется уже диалектическими попытками объяснять мифы и даже давать их
систему, пока еще по преимуществу в описательном виде. И только в
афинском неоплатонизме (Прокл и Дамаский) вся античная мифология целиком
и полностью дается в виде тщательно продуманной и триадически построенной
диалектики.
7. Античная философия и связи с историей мифологии и в связи с историей
диалектики. Обозревая общую историю античной философии, мы приходим к одному
непреложному выводу, который не делается у многих исследователей только потому,
что большинство излагателей кончает античную философию Аристотелем с
игнорированием последующей античной философии, а эта последующая античная
философия заняла еще почти целое тысячелетие. Но какой же вывод мы должны
делать, если иметь в виду не только первые два века античной философии, но и
все ее тысячелетнее существование?
а) Вывод этот заключается в том, что античная философия началась с мифологии
и кончилась тоже мифологией. Но та мифология, которая была вначале, была
мифологией, не расчлененной в идеологических понятиях, была полностью слитной в
этом отношении, была мифологией дорефлективной. В связи с наступлением эпохи
рефлективного мышления (а эта эпоха началась в связи с разделением умственного
и физического труда, то есть в связи только с рабовладельческой формацией)
мифология в качестве цельной и нераздельной уже стала трактоваться в античности
как преодоленный и уже архаический период. В связи с этим античное сознание уже
шло от мифа к логосу, то есть от единого и целостного чувственно-материального
космоса к его построению на основах разума.
б) Однако отдельные элементы, из которых состоял древний миф, в конце концов
тоже приходили к своему исчерпанию, и возникла потребность снова объединить все
эти отдельные моменты мифа, но объединить их уже на основе разума. А так как
миф весь состоял из противоречий, совмещаемых в одно целое, то новое совмещение
этих противоречий, а именно совмещение на основе разума, необходимым образом
становилось диалектикой, а с исчерпанием этой диалектики наступал конец и самой
античной философии.
в) Таким образом, античная философия началась с дорефлективной мифологии,
которую она преодолевала путем рефлексии, и кончилась мифологией уже
рефлективной, то есть диалектикой. Идеальное и материальное, общее и единичное,
ум и душа, душа и тело — все эти пары противоположностей, создававшие собою
тематику всей античной философии, в конце этой последней стали диалектически
преодолеваться, почему античная философия и кончилась диалектикой мифа. Поэтому
необходимо сказать, что античная философия началась с мифологии и кончилась
мифологией. Но при этом необходимо строжайше установить, что путь от
первобытной, дорефлективной мифологии к рефлективной мифологии периода высшей
античной цивилизации проходил через разные этапы того, что иначе и нельзя
назвать как диалектикой. При этом, несмотря на мифологическую подоплеку,
античная диалектика проходила через длинный ряд тончайших диалектических этапов
и в конце концов пришла тоже к высшему торжеству разума в виде строжайше и
систематически построенной диалектики. С исчерпанием исходной мифологии была
исчерпана и вся построенная на ней диалектика, а с исчерпанием диалектики
погибла и вся античная мифология.
8. Падение и гибель античной философии. Неоплатонизм (III — VI вв.)
не был гибелью античной философии, а ее последним расцветом, когда стала
ощущаться настойчивая потребность использовать решительно все исторические
достижения античной философии и свести их воедино. И косвенным образом такая
целенаправленность неоплатонизма уже свидетельствовала о наступлении последних
времен для античной философии. Однако символом подлинной гибели античной
философии явились многочисленные направления первых веков новой эры, известные
под именем синкретизма. Самой главной особенностью этого синкретизма как
раз была полная неуверенность в ценности чисто античных достижений и попытка
использовать такое совершенно неантичное явление, как христианство, в те времена
восходившее.
Этот синкретизм и, особенно, гностицизм уже были отравлены новыми и уже
совершенно неантичными интуициями, а именно интуициями личности, в то
время как вся античная философия, будучи рабовладельческой, была построена на
понимании человека, природы, мира и божества как в основе своей не личностных,
но чисто вещественных структур. В синкретизме развилось новое учение, которое,
как оно ни кажется сейчас фантастическим, просуществовало несколько столетий
как переход от античности к средневековью.
Это учение заключалось в том, что основой бытия трактовался уже не
чувственно-материальный космос, но абсолютная личность, которая выше всякого
космоса, которая его творит и им управляет. Это — христианство. А с другой
стороны, поскольку все античные божества, будучи обобщением природных явлений,
сами тоже весьма несовершенны и физически, и психологически, и духовно, то это
несовершенство было приписано и новооткрытому абсолютному и личному божеству.
Появилось чудовищное и с точки зрения античности, и с точки зрения христианства
учение о том, что это абсолютное божество само грешит, само совершает разного
рода преступления, само кается и само всячески старается спасти себя самого.
Абсолютный персонализм совмещался здесь с натуралистическим персонализмом.
И это было вполне естественно, поскольку исторически не могло же тысячелетнее
язычество сразу и мгновенно перейти в христианство. Этим и объясняется то, что
указанного рода синкретизм просуществовал несколько столетий, оказавшись не
только ересью для христианства, но и гибелью для языческой философии.
Так красиво, но бесславно и так естественно и трагически погибла
тысячелетняя античная философия, которая часто и глубоко влияла на многие
явления последующих культур, но которая как живое и цельное мироощущение
погибла раз и навсегда[6].
[1]
М.: ЧеРо, 1998.
[2]
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 6. С. 442.
[3]
Подробно учения Дамаския рассмотрены в кн: Лосев А. Ф.. История античной
эстетики. Последние века. Книга II. — М., 1988. — С. 339 — 367. (Прим.
ред.)
[4]
Подробно см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Книга I. — М., 1992. — С. 308 — 490. (Прим. ред.)
[5]
Подробно см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Книга I. — М., 1992. (Прим. ред.)
[6]
Систематическое исследование тысячелетней истории античной философии, которая
для А. Ф. Лосева является максимально выразительной, а значит, эстетичной,
представлена в его восьмитомном труде «История античной эстетики» (М., 1963 —
1994). (Прим. ред.)
|
|
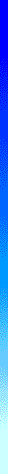 |