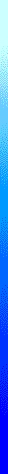
|
|
М. К. Мамардашвили
КАНТИАНСКИЕ ВАРИАЦИИ
Фрагменты лекций,
прочитанных М. К. Мамардашвили в 1982 году в Москве
... Вяжущая сила самопознания.
Кант
... Не буду пытаться высказать благодарность слушателям и организаторам
курса — я просто не найду слов. Считайте выражением такой благодарности то, что
я прочитаю, если это мне удастся. Скорее, чем высказать благодарность, я хотел
бы внушить вам сочувствие ко всякому человеку, которому приходилось когда-либо
читать лекции о Канте. У меня сейчас так трясутся поджилки, что я подумал, что
же испытывали — и испытывали ли? — те, кому приходилось читать о Канте
публично. Любя этого философа, у себя дома располагаешься так мило и уютно, как
он сам принимал у себя гостей, а сейчас я не у себя дома, я с вами и вслух
должен говорить, — поэтому сразу волнение и стеснение.
Cвои чтения я условно называю кантианскими вариациями или вариациями на тему
Канта. Слово “вариации” здесь нужно понимать в буквальном, музыкальном смысле
слова, в предположении, что у Канта есть какие-то сквозные темы, и их можно
вынуть из горизонтального развертывания изложения, соединить в некоторые связи,
сочетания и развивать их. Развивать не в марксистском смысле слова, а в
обычном, как говорят музыканты — “развивать тему”, связывая вещи, в изложении
как будто не связанные.
В мышлении Канта есть такие темы-эпизоды. Его мышление вообще очень
натуральное, такое же натуральное, как биение сердца или дыхание. Кант мыслил
именно так, мышление было естественной функцией его организма, который не был
создан для жизни. Так же, как и Декарт, Кант родился почти увечным ребенком, он
был создан не для жизни, но для мышления, и с большим удовольствием встретил
час смерти. Сам ускорить его он не мог. Воспитанность и нелюбовь к жестам — а
самоубийство всегда жест — не позволяли ему этого.
Это трудное мышление и трудное сознание. Как в смысле того, что мы будем
иметь дело с гениальным, гибким когитальным аппаратом анализа (то есть, с
теорией сознания, как и в случае Декарта), но также и в том смысле, что в
случае Канта это не просто мышление, а опыт бытия, — слава Богу записанный.
Правда, записанный трудно, настолько трудно, что к концу жизни, когда сил на
мышление уже не хватало, Кант, по словам не очень умных комментаторов, якобы
бесконечно и нудно повторялся. Но он хотел ухватить Жар-Птицу своей мысли,
которую сам не очень понимал и откровенно в этом признавался. В одном из писем,
заканчивая какой-то сложный философский пассаж и вдруг оборвав его, он говорит:
вот видите, насколько плохо я сам себя понимаю... Другие, конечно, понимали
больше, полагая, что одна и та же мысль у него бессильно вертится, кружится на
одной точке. Но история показала, что Кант был прав, когда боролся со своей
мыслью и никак не мог ее уловить. Потому что если не понял Кант, то другие
совсем уж ничего не поняли, если зачислили его «Opus postumum» в самые
неинтересные работы...
Я назвал эти чтения вариациями. Это означает, что мы должны брать слова,
термины, выражения Канта только как они звучат в аккорде. Лишь в аккорде имеют
у него значение такие слова: “только”, “ведь”, “уже”. Например, когда Кант
говорит: ведь пространство и время только идеальны, то предполагается подтекст —
только человечны, то есть, относятся к человеческому существу. Или когда он
пишет, что у вещей не может быть своего пространства и времени, то в аккорде со
словом “свое” тоже что-то имеется в виду. В отдельном философском термине нет
того, что есть в аккорде, в котором мы и должны брать кантовскую мысль, —
только тогда она может быть адекватно понята нами. И, кроме того, мы должны
попытаться выбить слова и термины из ячеек, из проложенной колеи текста, и в
том виде, в каком они были помыслены Кантом, привести их в новое сочетание.
Подобно тому, как высвобождают энергию атома. Это высвобождение состоит из двух
операций: высвобождения и закрепления ее на другое. Чтобы энергия могла
зацепиться на другую связь, на другой элемент и, оставаясь той же самой,
выразить себя иначе. Так и мы ничего не добавим к Канту, но что-то высвободим.
Ведь на мысль тоже распространяются законы жизни. Для многих вещей...
У Канта есть одна очень странная фраза. Она настолько гладка и афористична,
что именно из-за слишком большой ее красивости мысль не задерживается на ней, и
мы, констатировав ее красивость, идем дальше. Вот эта фраза: “Душа (не речь),
преисполненная чувств, — это высшее из возможных совершенств”. Под
преисполенностью чувств Кант, конечно, не имеет в виду чувствительную душу.
Речь идет о состоянии человека, который максимально долго находится в
возбуждении и напряжении всех своих душевных струн — восприятия, интенсивности
и концентрации мышления и т. д. Кант был именно такой человек, который
понимал, что явление души, полной чувств, есть в мире само по себе чудо и
невероятное событие. Потому нередко мы тупо стоим перед вещами, которыми должны
бы мыслить, а мы лишь смотрим на них; перед людьми, встреча с которыми должна
бы нас взволновать, а в нашей душе пустыня, ничего не возникает. Например,
свидание, о котором ты мечтал несколько лет, наконец состоялось, и... ничего
нет. Скучно. И хочется, наоборот, чтобы свидание, о котором столько мечтал,
скорее кончилось. Действительно, тогда понимаешь, что душа, полная чувств,
есть, по словам Канта, величайшее совершенство. И мы понимаем, что Кант имеет в
виду не просто красивую фразу, а именно событие в мире, называемое душой, что у
этого события есть какие-то условия, не являющиеся или не совпадающие с содержанием
переживания души.
Философия у Канта как раз, очевидно, и состояла в думаний о тех условиях
содержания, которые не совпадают с самим содержанием, они незаметны или уходят
на задний план, когда это содержание случилось. А мы, люди, случившееся
содержание воспринимаем как само собой разумеющееся и выражаем его в предметных
терминах, т. е. мыслим о нем в терминах самого же содержания; философы же
понимают, что есть еще что-то другое.
Значит, задача перед нами такая: восстановить эти условия из бурно наполненной
чувствами души, которая улеглась в кристаллах текста, развернулась в
горизонтальную плоскость длинной лентой изложения, застыла в ней и, конечно, не
видна. Но Кант-то свою живую душу видел, поэтому он бесконечно повторялся и
никак не мог справиться с этой мыслью, а потом уже и сил не хватало.
Кант был вежливым человеком. А одной из высших форм вежливости есть правило
не говорить в обществе слишком много о себе. Он это правило выполнял настолько
тщательно, что никогда не читал своей философии. Человек, который был
университетским просветителем и воспитателем юношества, ни разу не прочел свою
философию. В том числе из вежливости.
Мы должны помнить, что, имея дело с Кантом, мы имеем дело с людьми и
временами классическими, т. е. с людьми простых и твердых убеждений,
наивных и немногочисленных мыслей и наблюдений, но отличающихся пониманием. Я
говорю о классической эпохе как эпохе простых мыслей и твердых верований в
отличие, скажем, от социологических теорий XIX и XX веков, когда
есть все: есть буря слов, но нет того простого понимания, которое было,
например, у Монтескье, было у Монтеня и которое было у Канта. У Канта не
случайно такая французская форма выражения мысли. Особенно там, где он пишет
простое маленькое эссе в ответ на какой-нибудь вопрос или разъяснение
какой-нибудь детали, или отклик на обращение академии. В собственных книгах, в
«Критике чистого разума» и др., мысль строится и движется очень сложно и
нередко ломает красоту и гармонию фразы. Но там, где Кант выражает себя
непосредственно, когда не ставит перед собой задачи сразу, в сей же миг,
поймать неуловимую жар-птицу, — там он очень элегантен в выражениях, очень
французский.
Я не случайно говорю “французский”, потому что после Канта начинается эпоха
для меня отвратительная, эпоха собственно немецкой философии. Кант, конечно, не
немецкий философ, не в том смысле, что он не мыслил внутри немецкого языка, он
мыслил внутри своего языка, был привязан к своему месту. Но во времена Канта
еще не было понятия “нация” и тем более не было национал-философов, т. е.
идеологов, которые под барабанный бой своих фраз хотели вести вперед народы,
свои, конечно, народы. И среди многих предрассудков, которые мешают нам понять,
что говорится со страниц кантовских сочинений, следует числить предрассудок, в
силу которого Канта рассматривают как ступеньку к чему-нибудь. Обычная форма
такова: говорят, что Кант — родоначальник немецкой классической философии,
немецкого классического идеализма. Я хотел бы предупредить: о Канте нельзя
сказать, что это тот Авраам, который родил Исаака. Он не занимает место бабочки
на какой-то ступеньке эволюции, где предыдущее порождает последующее.
С Кантом приятно иметь дело не только потому, что его нельзя поместить в
такую клеточку, а еще и потому, что это философ, который мыслил о том, о чем
мыслил (мыслим же мы всегда конечным образом и о каких-то конкретных, а не обо
всех предметах) с отсветом незнаемого на знаемом. То знаемое, которое Кант
излагает и которое ему удалось ухватить, всегда окружено ореолом, несет на себе
отсвет незнаемого, какого-то открытого пространства, и только на фоне и в
просвете этого пространства оно и есть то знаемое, что и есть кантовская мысль.
Поэтому нам сразу как-то легко. У нас есть какая-то надежда на то, что если мы
в связи с Кантом о чем-то подумаем и это подуманное не будет похоже на то, что
написано Кантом, мы все-таки можем надеяться, что подуманное нами есть все-таки
кантовская мысль, а не другая, просто потому, что на кантовской мысли всегда
лежит отсвет незнаемого. Он как бы знает, предполагает незнаемое и внутри
незнаемого формулирует то, что он может сформулировать, т. е. формулирует
всегда с учетом ореола вот этого незнаемого, оставляя тем самым место и нашим
мыслям. Но наши мысли могут легко проверяться в связи с Кантом. Мысли — тоже реальные
эмпирические явления, так же как и реальные явления или их совокупность, они
подчиняются закону понятности, т. е. интеллигибельности; так и
совокупность мыслей тоже подчиняется закону интеллигибельности, т. е. если
я, не меняя ad hoc одного какого-нибудь принципа объяснения, могу понять, не
вступая с собой в противоречие, и поставить на свое разумное место совершенно
различные мысли Канта и они у меня не распадутся в кучу мусора, а останутся
космосом, гармонией, то тогда понимание правильно. То есть если сами мысли
являются эмпирическими фактами и если есть совокупность такого рода мыслей, то
мы можем проверить свое понимание, измеряя его тем, насколько эти мысли
приводятся в понятную связь, ставятся на свое место так, что не возникает
противоречия, так, что мысли не распадаются и не превращаются в кучу мусора и
могут держаться вместе, не требуя для каждого случая разнородных ad hoc гипотез
или их смены.
Обычно Канта называют критицистом. Кантовская философия — это критицизм, но
критицизм не в том пошлом смысле, как мы склонны часто это понимать и как это
установилось в учебниках. Кантовский критицизм есть критицизм в широком и очень
странном смысле этого слова, трудно уловимом, но интуитивно легко понятном,
если поставить это в понятную связь, следуя своему собственному, только что
выведенному правилу.
Представьте себе, можно ли Хлебникова назвать критицистом? Ну, человек сразу
вздрагивает и не делает этого, конечно. А Кант делает ту же самую работу. Она
лежит в области возможности философии вообще, а также ее средств и философского
языка как такового. Вот его предмет. Так же как предметом Хлебникова были
средства поэзии вообще, а не написание отдельных хороших стихотворений и поэм.
У Хлебникова нет поэм и нет стихотворений, хотя это поэт. У Канта все книжки некрасивые,
кроме отдельных, я бы сказал, маленьких эссе. Это уродливые, неловкие,
незавершенные и незаконченные книги. И в каждой из больших книг Канта
повторяются куски из какой-нибудь другой его большой книги. Hу, скажем, нельзя
читать «Критику чистого разума», не читая параллельно «Критику способности
суждения» или «Критику практического разума». И вот эта бесконечная работа,
лежащая в области размышления о возможности, возможных средствах философии и
вообще о том, как построен философский язык и что мы можем вообще,
философствуя, — вот это и есть критицизм Канта.
Мы должны воспринимать все большие книги Канта, т. е. все «Критики»,
как одну работу или один мир. Опыты все новые, но никаких статуй, в смысле
завершенных произведений, нет, так же как нет ни поэм, ни стихотворений у
Хлебникова. Эпиграфом ко всему этому можно было бы взять... Хотя нет, еще об
одной вещи в связи с последним. Нам гораздо больше откроется в Канте, если мы
посмотрим на его текст с одной неожиданной мыслью, которую твердо можно доказать.
А именно, что Кант принадлежит к числу тех философов, у которых нет системы.
Нет системы у Канта, нет какого-то выделенного им конкретного явления. Ну,
скажем, у Гегеля было такое явление, обозначенное им понятием “мировой дух”,
или у Шеллинга — “художественный гений” или “гений”. Такое явление, в свете
которого объединяется, выводится все другое, подвергается в свете этого явления
вторичной интерпретации и объединяется в то, что называется системой,
т. е. в нечто, что выводимо из некоторого принципа, положенного в систему.
Вспомните Канта и назовите такое явление, которым бы он пользовался как
универсальным ключом для объяснения и одновременно для построения системы. Нет
такого явления. Поэтому нет и системы.
И вот эпиграфом к тому, что лежит перед нами без системы, мы можем поставить
сочетание трех слов, промелькнувшее у Канта в работе «Грезы духовидца,
освященные грезами метафизика»: “... вяжущая сила самопознания”. Мне,
например, сразу представляется образ какой-то массы энергетически напряженных
элементов, которые, если они не приведены в связь, разорвут тебя или окружающий
мир на части, и вот то, что их соединяет в одну могучую единицу, излучающую
энергию, это и есть “... вяжущая сила самопознания”. Когда она выполнила
работу, тогда текст излучает когерентный, когерированный луч.
Интересно, что, написав рецензию на работу Гердера о всемирной истории, Кант
не отказал себе в удовольствии, хотя это было и неловко в смысле текста,
полностью переписать весь титульный лист сочинения Гердера (не только название,
год и место издания, но и эпиграф, который был у Гердера). В переписывании
эпиграфа не было, конечно, никакой необходимости, но это не случайно. Канта
вела его внутренняя основная форма, организованная вокруг вяжущей силы
самопознания, потому что эпиграф Гердера, взятый из римского поэта Терция,
звучит так: “Чем быть тебе ведено Богом и занимать среди людей положение какое
— это пойми”. Это и есть весь Кант. Тем более что Кант с удивлением и
недоумением смотрит вокруг себя, на людей (и кажется даже, что он и нас видит),
потому что он видит, что эти люди хотели бы, чтобы Бог был сам собой в мире,
независимо от их нравственного усилия и от выполнения ими движения по
траектории “... вяжущей силы самопознания”, т. е. чтобы мир был
устроен до них, до людей, без них и после них, так же надежно, как и до них, и
без них, но Богом ведь! Кант не понимает, как вообще такое можно предполагать,
что мир может быть таков, и как можно к образу “Бога” прибегать в смысле вот
такого его устройства. “Я”, движущееся по траектории “... вяжущей силы
самопознания”, есть элемент в мире, без которого этого мира и не было бы. Мир
есть то, что создалось после того и в зависимости от того, как каждый выполнит
завет: “Чем ведено быть тебе Богом и занимать положение среди людей, какое —
это познай”.
Как-то меня очень задела, зацепила странным образом одна фраза, которая была
для меня совершенно неожиданной. Обыватели Кенигсберга, видя Канта проходящим
по улице, называли его “красавчик-магистр” или “магистр-красавчик”. Слово “красавчик”,
казалось, совершенно неприменимо к Канту. Хилое, сгорбленное тело с непомерно
большой головой, пасаженной на тщедушное туловище. Но у Канта были очень
правильные, выразительные, одухотворенные черты лица и огромные голубые глаза.
Тем, кто их видел, они казались большими, чем они были на самом деле. Эти в
общем-то обыкновенные, средней величины глаза казались чудовищно большими,
потому что они были странного, редко встречающегося, пронзительного, эфирного
голубого цвета, слегка увлажненные, что увеличивало их блеск и пронзительность
для всякого, кому удавалось заглянуть в них. У Канта была манера во время
беседы вдруг поднимать глаза и вбирать ими собеседника в себя. Карамзин,
который путешествовал по Европе и заехал в Кенигсберг — а путешественники того
времени считали себя обязанными знакомиться с местными джентльменами тех
городов, которые они проезжали, — был покорен очарованием вежливого,
воспитанного, обаятельного существа, которое предстало перед ним. Это существо
было знаменитым “ученым и философом” или “сухарем-педантом” Кантом.
И еще: когда-то давно, в юности, меня задело одно слово, которое сливалось с
Кантом, с его образом и, может быть, во многом мне помогло. Это
слово-космополит, гражданин мира, в простом, единственном и благородном его
значении. Кант по малейшим реакциям своего организма и души — гражданин мира, и
очень воспитанный и вежливый гражданин мира. Вы знаете, что мораль Канта якобы
очень ригористична. Но мораль эта развивалась и формулировалась человеком,
который никогда и ни о ком плохо или зло не говорил. И если в его сочинениях
встречаются полемические приемы, то это именно полемические приемы, обычная
форма изложения, диспута и для того времени, и для нашего. И вот представьте
себе человека, который, во-первых, никогда не излагал свою философию,
т. е. не пользовался своим званием и своей трибуной для того, чтобы
вербовать окружающих в свою философию, в свои мысли. Во-вторых, он многого не
говорил или то, что говорил, говорил из вежливости, так как был человеком
абсолютной светскости, вежливости, обаяния и долга. А вежливость — это то, без
чего общение, вынужденное общение, превратилось бы в ад.
Кант для меня — это элемент духовной жизни космополитической Европы, в
которой только на волне Возрождения возникает цивилизованный светский слой,
тоненький, и Кант чувствует принадлежность к этому тоненькому цивилизованному
слою. Отсюда и абсолютная обязанность просвещать юношество, давать образование
тем, кто его хочет и кто с толком и для благого дела может им воспользоваться.
И в этом образовании и возникла видимость наличия у Канта системы, потому что
Кант, выполняя абсолютный долг вежливости, читал кроме своей философии другие
бесконечные курсы. Он читал их по правилам школьной аргументации: с
диспутальным подразделением аргументов, доказательств. И эта форма лежит и на
написанных Кантом сочинениях. Но это не система. Это форма и способ
аргументации, приспособленной к тем путям, какими шло образование и воспитание
мыслящих людей. И вот внутри этой формы, представьте себе, как в жесткий кокон,
заковано хрупкое тело, бесконечно добрая и тонкая душа, абсолютно лишенная
расслабленной добряческой сентиментальности. Ибо если речь идет о том, что нам
подумать, то тут все очень жестко у Канта. Чего бы мы ни хотели, чем бы мы ни
волновались, какие бы у нас ни были намерения, когда мы говорим, волнуемся,
совершаем поступки, дело обстоит так. В этом — нерв кантовской философии. Это
так, и ничего с этим не поделаешь. И так тянет он всю свою жизнь, и в конце —
очень характерная для Канта фраза. Он настолько растворен в свете своей мысли,
настолько тело его приспособлено к тому, чтобы дать возможность ровно
минимально продолжиться жизни того света, которое несет тело. Конечно, без тела
он погас бы, но тем не менее это только минимум того, что нужно, чтобы свет
был. И, будучи тем, о чем я говорил, Кант иронически сказал о себе в период
болезни, когда он уже не стоял на ногах и иногда падал: “Легкое тело не может
слишком тяжело упасть”. Эта фраза, как искра, высвечивает очень многое в Канте.
Значит, Кант интересен нам лично. Есть некоторые вопросы, которые одновременно
содержат в себе и объяснение, почему именно вопрос возникает. Кант явно
интересен нам лично. И тут тайна, конечно, потому что, заинтересовавшись им
лично, мы вдруг обнаруживаем странную вещь — что в жизни Канта ничего не
происходило. И если под личным интересом или интересом к личному мы имеем в
виду интерес к каким-то драматическим событиям и происшествиям, то с удивлением
обнаруживаем, что личных событий в жизни, в смысле биографии, ровным счетом ничего
не происходило.
Ну жил он безвыездно в Кенигсберге, вел размеренный образ жизни, не был
женат и т. д. Хотя жениться он был не против, но, очевидно, было у
него то, что немцы называют Wiederwillen, какая-то безотчетная немогота,
неохота. Два раза он собирался жениться, но пока раскачивался, для того чтобы
сделать предложение, дама уже выходила замуж. Канта никто не мог ждать. Это
ясное дело. Но тем не менее он же, говоря, что самое большое впечатление (я
помечаю слово “впечатление” или “впечатлительность”), которое один человек
может оказать на другого,— это то впечатление, которое могут вызвать или любовь
к человеку, или уважение к нему, сказал, что существует впечатление, сочетающее
в себе и то и другое, и это — впечатление, получаемое от женщины, одно из самых
больших возможных впечатлений в мире. Причем это говорит Кант — холостяк,
девственник.
И вот здесь одновременно и разгадка этого человека. Ведь подобно тому как
тонкая бумага трепещет на малейшем ветерке, Кант был человеком абсолютной
живости и восприимчивости, невероятной впечатлительности и способности
представить и вообразить все настолько, что, с одной стороны, ему даже не надо
было реально ничего испытывать (ведь я сказал, что в жизни Канта нет
событий), чтобы события случались и были узнаны (не в смысле абстрактного
знания), а с другой стороны, именно поэтому ему нужно было держать себя в
руках. Кант очень “боялся” своей живости и впечатлительности (т. е.
впечатление было настолько живым и одновременно настолько обссессивным, что
сразу и надолго овладело всей душой). А мы знаем, что душа, полная чувств, —
самое большое совершенство в мире. И он погиб бы, если бы расковал себя и дал
себе возможность болтаться все время на ветру впечатлений, ударяющих в этот
тонюсенький листочек его живости и восприимчивости. Я повторяю: ему не надо
было даже реально что-то испытывать, чтобы испытать. Известно, что Кант любил
читать географические описания и записи путешественников. И современники Канта
рассказывают странную и забавную вещь, что он мог настолько живо представить
себе описанное, т. е. не им увиденное, что это было для него реально
живым, как бы им самим увиденным, причем увиденным с такой точностью, что он
мог описать лондонцу один из лондонских мостов так, как будто он всю жизнь
прожил в Лондоне и только тем и занимался, что разглядывал и запоминал этот
мост. У Канта была фантастическая способность присутствия. И спас он себя,
конечно, только дисциплиной. Он читал не так, как мы читаем. Нам вообще очень
трудно присутствовать; чтобы возбудиться, нужно переместиться в пространстве,
например, мне нужно поехать в Париж, а Канту этого не нужно было: он мог вполне
пережить то, что, наконец-то с большим трудом переместившись, испытав все
мучения и встряски, будет переживать человек (т. е. присутствовать при
том, что происходит). Скажем, если хочешь встретиться с любимой женщиной, то,
встретившись, переживаешь встречу. А ведь он говорил, что можно и не встречать
на деле, ибо все равно условия переживания встречи с любимой не совпадают с
содержанием самой встречи как действительности. Там есть еще какие-то
дополнительные условия, диктующие или определяющие то, что это вообще в мире
может случиться.
Итак, требование напряжения или состояния полноты чувств. Кант был носителем
такой полноты чувств, которой он сам должен был остерегаться и бояться, чтобы
свойственная ему впечатлительность не влекла его по своим собственным
траекториям, по своему пути, чтобы все-таки мог владеть собой. И это
одновременно и живой нерв всей его философии. Она вся резюмирована мотивом
вяжущей силы самопознания, которая стягивает в какую-то точку именно это —
полного чувств человека как событие в мире, отнюдь не само собой разумеющееся.
Кстати, интересно, что, очевидно, есть какие-то внутренние законы у событий
или какая-то внутренняя форма, выражающаяся часто какими-то почти магическими
переголосками, перекличками, то, что символисты называли соответствиями
(correspondences). Вы знаете работу Канта «Грезы духовидца, поясненные грезами
метафизика» — работу о Сведенборге. Очень интересно, что там есть такое
мистическое совпадение, магическое, вернее, совпадение, аналогичное
перекресткам в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Там как бы на
станциях расставлены фонари встреч, или встреч, которые должны были быть, но не
состоялись, люди прошли мимо, или тех, которые состоялись совершенно случайным
образом. как случайны мигающие фонари на железнодорожных станциях, разделенных
одна от другой заснеженными российскими просторами. Вот это перемигивание того,
что должно быть вместе, но не вместе, но перемигивается одно с другим, есть в
этой странной работе о Сведенборге.
Она написана после или параллельно с письмом, где Кант отвечает на
обращенный к нему вопрос одной дамы, которая расспрашивает его о событиях,
излагаемых Сведенборгом. Он излагает их, полностью воздерживаясь от
высказывания какого-либо своего мнения, просто пересказывает то, что произошло.
Но интересно, что произошло. Сведенборг, будучи в одном городе в компании
друзей, вдруг оказался во власти какого-то состояния, вышел в сад и, вернувшись,
сказал всем присутствующим, что он увидел пожар в Стокгольме (за n-е число
километров от того места, где это происходило), описал увиденный им пожар,
сказав, что он происходит в такой-то части Стокгольма, горят такие-то дома
и т. д. Сведения этого описания якобы полностью подтвердились через
три или четыре дня. Здесь явно внутренняя переголосица способности видеть —
видеть лондонский мост по описанию, а там — якобы телепатия. Но именно
способность представить себе заинтересовала и затронула Канта. Он движется по
внутренней форме этой магической переклички с душой Сведенборга, который явно
телепатически видел, а Кант видит, присутствует там, о чем есть какие-либо
знания, в том числе и словесные.
Так вот, увидев себя со стороны во взаимодействиях, т. е. увидев себя в
точке воспринимающим, увидев себя видящим, я, по Канту, оказываюсь в ситуации,
в которой я что-то должен принять внутри какой-либо другой всеобъемлющей
ситуации. То, что мы принимаем, то, что мы должны принять как откровение, —
есть то, смысл чего не ограничен и не раскрывается в терминах мира (мирского) и
что можно поэтому лишь принять. Внутри структуры сознания, а она символична, мы
только и можем впервые (и Кант это делает) отстраниться, высвободиться и
посмотреть на себя в точке взаимодействия с вещами, не изнутри взаимодействия,
потому что если бы мы были только внутри взаимодействия, то даже бы не знали,
есть ли у нас представления. Или, иными словами, если восприятие, то только
осознаваемое восприятие.
Сознание отлично от содержания представлений, от психики; абстрактно мы
можем полагать содержание представлений, психические состояния. Но если мы не
можем осознать себя в качестве субъекта этих представлений и тем самым сами
осознать эти представления, то мы оказываемся в мире некоторого зависимого
существования, причем зависимого так, что в этом мире происходит игра,
продолжающаяся бесконечно, так что я никогда и не узнаю, что у меня меняются
состояния. Если я разрубаю эту зависимость, вводя понятие сознания или критерий
сознаваемости, то я оказываюсь в области чего-то, что я принял без
необходимости ответа, так, что понял, что отвечать на этот вопрос нет никакой
нужды, т. е. на какой вопрос? — а на вопрос — откуда у меня сам этот
критерий сознаваемости и вытаскиваемые согласно этому критерию формы
чувственности и рассудка. Чтобы сказать, откуда они у меня, я должен был бы
иметь возможность сравнивать, т. е. поставить один рассудок и другой
рассудок во внешние отношения, а для этого нужно Третье. А его нет. Мы внутри
чего-то, а оказавшись внутри, мы что-то должны принять, принять означает
вглядеться и ясно увидеть принимаемое, потому что принимаемое не просто факт,
не эмпирическая данность.
Итак, тому, что принимается, или откровенному, я дам пока первое, грубое
определение: это есть сверхчувственное, невидимое. Как пишет Кант в
«Разрозненных листочках» (так называется его работа, состоящая из различных
пометок, записок и изданная под таким названием), мы можем прийти к познанию
вещей в себе, т. е. сверхчувственного, Бога и бессмертия, только через
реальность понятия свободы и с учетом того, что в практическом отношении мы
этого же достигаем в категорическом императиве, который есть синтетическое
суждение априори или априорное синтетическое суждение, без которого мы даже
нашей цели никогда априорно не узнали бы, а мы должны предполагать такую цель,
которую мы априорно познаем (или я заменил бы слово “познаем” на “узнаем”,
априорно, а не эмпирически, подчеркивает Кант), ибо эти цели относятся к
сверхчувственному или невидимому и эти понятия должны априори предшествовать
всякому откровению и лежат в его основе. Это уже философский ход.
Кант очень странную вещь вводит, вводит философски, я бы сказал, в отличие
от религиозного хода. Что именно? Философ, оказавшись в ситуации, которую я бы
назвал ситуацией приятия, выполняет свою философскую миссию, сказав, — а кому
открывается? Кому говорит откровение? И Кант в качестве истинного философа
отвечает: тому, кому уже открылось. Чтобы принять откровение, нужно его уже
знать, оно уже должно быть, иначе мы его даже не могли бы узнать.
Здесь звучит кантовская проблема тавтологии, это фундаментальный философский
ход, в котором обнаруживаются некоторые тавтологии существования и понимания.
Кант говорит, что мы не могли бы вообще рассуждать о Боге и бессмертии, о вещах
в себе или о сверхчувственном, если бы эти цели, т. е. цели,
неограниченные и неразрешимые в терминах этого мира и называемые “призванием
человеческого существа” (Кант так определяет призвание человеческого существа:
призвание — это то, что не ограничено условиями и границами этой жизни, что
можно перевернуть, то, что не ограничено и не исчерпывается или не разрешается
условиями и границами, есть призвание или откровение), не были бы откровением
откровенно призванному, т. е. откровение должно лежать в основе
откровения; добрый человек добр, это тавтология. То, что мы несомненно знаем
разумом, есть тавтология, и, не позволяя себе дальше заниматься религиозными
рассуждениями или рассуждениями о предметах откровенной веры, Кант занимается
тем, чем должен заниматься философ, а не теолог, а именно он показывает или
исследует: ведь если откровение не может открыться тому, у кого этого
откровения уже нет, то описание, в том числе исторических актов и случаев
откровения, не ведет нас к пониманию. А я хочу понимать. А что значит понимать
в этом случае? Понимать в этом случае означает оглядеться в то принятое, на
вопрос о возникновении которого нет никакой необходимости отвечать. Что это за
принятое? Принятое — это сердце, скажет Кант, добро. Поэтому он говорит очень
странную фразу о Руссо, которая совершенно непонятна, если ее не поставить в
контекст некоторой от знания и мышления не зависимой достоверности,
очевидности, и если мы этого не понимаем, то не поймем и следующего выражения
Канта (у Канта оно встречается и в письмах, и в ранних работах), а именно, что
истинным автором теодицеи, т. е. оправдания Бога в этом злом мире, или
автором истинной действительной, настоящей приемлемой теодицеи, является Руссо,
который, как вы знаете, теодицеей никакой не занимался. Почему Руссо? А потому
что Руссо был для Канта конгениальным ему автором, который прекрасно понимал,
что человеческое сердце содержит в себе нравственные побуждения, осуществляемые
нами без постройки каких-либо приспособлений для проникновения в другой мир.
Это последнее буквально цитата из Канта из «Грез духовидца, поясненных грезами
метафизика». И я позволю себе прочесть другой кусок. Кант пишет так: “Поэтому
человеческой природе и чистоте нравов, по-видимому, более соответствует
обосновывать ожидание будущего мира (оправдание мира или Бога в мире) на
чувствах благородной души, чем поддерживать ее доброе поведение надеждами на
другой мир”. (Ну, надежды мы ведь уже исключили. А ведь вы не заметили, что,
когда я сказал ученое слово “тавтология”, я снова говорил о том же самом: о
мышлении, которое может надеяться, не надеясь, потому что надежда абсолютна. А
раз она абсолютна, то нечего вплетать Бога и надежду на него в свои повседневные
дела.) Значит, уже в том, что называется нравственным чувством, речь идет о
некоторой ненаглядной, умозрительной интуиции или ухватке, а не о натуральном
предмете. Когда я говорю, что откровение предполагается, то я могу его узнать.
Если же я его узнаю, оно уже есть. Кант говорит это. Что это? Это — умное
зрение. У него нет предмета, потому мы о предметах и не говорим, предметное
множество пусто, когда мы говорим, что добрый человек добр. Добрый человек добр
— а это уже Декарт. Но Кант говорит то же самое. Так почему Руссо, почему
именно он? Для этого я немного продолжу цитату: “... чувство благородной
души в отличие от поддерживания доброго поведения надеждами на другой мир” —
такова нравственная вера, простота которой отлична от умствований или пристроек.
А что мы пристраиваем к простоте? К простоте мы пристраиваем всякие допущения и
фантазии о том, как устроен сверхчувственный мир. У Канта здесь звучит в
обрезании этих пристроек потрясающая интуиция и чувство, которое я назвал бы
чувством размерностей. Когда я строю пристройки, описывающие чувственный мир,
то все термины понятия внутри него несоразмерны с ситуацией в употреблении этих
терминов и понятий, несоразмерны с возможностями наблюдения, с возможностями
восприятия и несоразмерны с задачами человеческими. Ну допустим, я опишу вам
сверхчувственный мир, а именно его я опишу, если я расскажу вам о том, что есть
эоны, каждая единица эона насчитывает 300 миллионов лет, и расскажу вам,
как они сменяют один другой. И Кант на это скажет: простите, время эона
несоизмеримо, несоразмерно времени моего действия. Поступать я должен сейчас, и
как мне перейти от терминов эонного описания к терминам, соразмерным с шагами
конечными моего действия, с шагами конечными моего мышления? Как я могу из
эонов вывести то, что сказать мне сейчас: ложь или правду? Несоразмерно,
размерность нарушена.
Вот я ввел еще одну интуицию, а именно интуицию размерности, причем слово “размерность”
я употребляю как в интуитивном смысле, так и в смысле современных
математических теорий размерности. Канта, например, все время интересует
ситуация: не находимся ли мы уже, употребляя какое-либо понятие, в такой
ситуации, в которой условия реализации этого понятия не выполняются, поэтому мы
теряем размерность нашего мышления.
Поэтому, заключает Кант, предоставим все шумные учения о таких отдаленных
предметах умозрения праздным головам. Вот тому, кому нечего делать, тот пусть и
рассказывает, как построено на самом деле эоновое царство. На самом деле,
говорит Кант, они не имеют никакого значения, и минутное влияние оснований за
или против того или иного учения, т. е., скажем, за исчисление эоной в
миллионах лет или против законов, в которых описывается миграция душ, — за или
против не имеет никакого знания. “И минутное влияние этих споров, может быть,
сможет в снискании одобрения школ, но не скажется а будущей судьбе честных
людей”.
А честность в этом смысле и есть то, что называл Руссо нравственным чувством
или человеческим сердцем: т. е. фактически, а не по словам Руссо: эта
фактическая, а не словесная часть у Канта яснее. У Pуcco — слова, а смысл яснее
у Канта. Слова Руссо совпали с гением Канта, и Кант выявил вневременной,
т. е. независимый от смены состояний, от прогресса и от знания,
внемыслительный характер самой бытийной основы человеческого существования или
нравственности, поскольку нравственность есть обобщенная или выделяющая
характеристика существования человеческого феномена как такового.
Я резюмирую последний шаг рассуждений таким образом: во-первых, речь идет о
том, что мы всегда внутри тавтологии нравственности. Мы ее не можем расцепить,
если захотим узнать, откуда она. Так же как мы не можем расцепить тавтологию
разума, если мы захотим узнать, откуда и как образовались у нас те формы
чувственности и рассудка, которые у нас есть. Во-вторых, то, что я говорил,
означает независимость нравственности от знания, автономию нравственности по
отношению к знанию, и когда Кант говорит о том, чтобы снять знание, он говорит
как раз о том, что в мире причинных связей есть — и причинным связям не противоречит
— автономная сфера нравственности и понимание ее избавляет нас от необходимости
отвечать на вопросы, на которые нет ответов уже по логическим причинам.
И все это в звучании темы внутренней, кантовской, которую я обозначил так — “если
уже есть, то...”. Например, в частном случае, если уже есть, то нет
необходимости сравнивать, т. е. если у нас уже есть тавтология
нравственности, если у нас есть та форма чувственности, которая у нас есть,
если у нас есть тот разум, который есть, то нет необходимости внешнего
сравнения, достаточно понять, что это такое. А само понимание и есть то, что
вне времени. Нравственность вне времени — это тавтология, внутри которой мы
всегда. Ну, к чему не имеет никакого отношения прогресс цивилизации, прогресс
науки, прогресс техники? К узнаванию. К узнаванию себя в качестве человеческого
существа, которое тавтологично, как я вам сказал. Оно не меняется. Мы узнаем
себя вне времени в том смысле, что узнавание относится к тому, внутри чего нет
смены состояний и последовательности их. Мы не оперируем никаким расчленением
на сменяющие одно другим состояния.
Одновременно такая формулировка тавтологии есть формулировка проблемы
существования как чего-то, что не может быть выведено из мысли. Я напомню вам,
что декартовское “когито эрго сум” или “эго когито эрго сум” есть одна из самых
грамотных и первых теоретических формулировок чего-то, в чем нет смены
состояний. Между “я” и “существую” нет интервала. Сказав “я”, сказал “существую”.
Сказав “существую”, сказал “я”. И мы не можем внутри них ничего поместить, не
можем их расчленить. Мы не можем вообразить никакой смены и последовательности
между “эго когито” и “эго сум”.
Я возвращаюсь к утверждению, что если уже есть, то нет необходимости
сравнивать, и к держанию на фоне всего этого проблемы Руссо как истинного
первооснователя теодицеи, по словам Канта.
Я коротко помечу, с другой стороны, или обозначу в других терминах этот
пункт, это оправдание. Это оправдание в общем очень простое. Если мы так поняли
нравственное чувство, то мы тем самым совершили или обосновали теодицею, и
вполне достаточным образом. Или, иными словами, эта тема резюмируется
единственно философски возможным тезисом, а именно: Бог невинен, а мы свободны.
Так вот, в связи с вопросом, отвечать на который нет никакой необходимости,
Кант пишет (кстати, такие же рассуждения есть и в его письмах к Фихте): “Если
бы мы даже хотели ответить на вопрос, на который отвечать нет никакой
необходимости, то мы, хотя подобное исследование лежит полностью за пределами
человеческого разума (и главное, я замечаю, ненужно. — М. К. М.),
не могли бы указать никакой другой причины, кроме действия божественного
творца. Хотя мы вполне могли бы объяснить свое право, раз оно нам уж дано,
судить об этом априори “квид-юрис” посредством разума” (т. е. не
посредством рассуждений о действиях божественного творца, а посредством разума:
повторяю, как звучит фраза: “Не могли бы указать никакой другой причины, кроме
действий божественного творца”, поскольку не мы можем делать то, что лежит за
пределами человеческого разума, то тогда — раз разум установился — мы ссылались
бы на действие божественного творца, хотя, говорит Кант, “мы вполне могли бы
объяснить свое право, раз уж оно нам дано, судить об этом (скажем, о
тавтологиях, о нравственности и т. д.) априори “квид-юрис”
посредством разума”).
“Можно ли побудить разум достигнуть этого понятия теизма только посредством
того, чему учит история, или только посредством непостижимого для нас
сверхъестественного внутреннего воздействия?” Я уже показал, что как философы
мы выбрали последнее, т. е. точку зрения не понятия теизма, развиваемого
теологией, а точку зрения непостижимого (в смысле до конца неразложимого, но
принимаемого) сверхъестественного внутреннего воздействия. Что это такое и
почему сверхъестественное внутренние воздействие? Ну, например,
сверхъестественностью внутреннего воздействия, и при этом для нас несомненного,
обладает феномен совести, голос совести внутри нас. Он действует на нас, но
действие его сверхъестественно, потому что ответить на вопрос “почему?” нельзя,
будет тавтология. Если по совести, то в ответ на вопрос “почему?” мы говорим:
да не почему, по совести. Не потому не потому, а по совести, т. е.
нипочему. Здесь я стою не могу иначе.
Вот что Кант называет сверхъестественным внутренним воздействием. Он не
имеет в виду какое-либо сверхфизинеское действие, которое имел в виду Лейбниц в
своей теории предустановленной гармонии. Он имеет в виду очень простую вещь.
Это несомненное внутреннее воздействие, но оно для нас непостижимо и в этом
смысле сверхъестественно.
Значит, можно ли побудить разум достигнуть этого понятия теизма только
посредством того, чему учит история, т. е. как бы “квид-факто” (под
историей здесь имеется в виду Евангелие), или только посредством непостижимого
для нас сверхъестественного внутреннего воздействия? Этот вопрос касается
совершенно второстепенного, а именно возникновения и развития этой идеи, или
нашего разума. Это совершенно второстепенно. Поэтому, рассуждает Кант далее,
разумеется, можно согласиться с тем, что если бы Евангелие до сих пор не
научило всеобщим нравственным законам в их совершенной чистоте, то разум до сих
пор не мог бы их постигнуть с такой полнотой. Однако теперь, когда они уже
есть, каждого можно отныне убедить в их правильности и значительности с помощью
одного только разума. Повторяю, вот эту идею, т. е. незнаемое нами в
словах “свобода”, “сверхъестественное внутреннее воздействие” и т. д.,
которые лишь исторически предполагают соответствующие события и предметы веры,
нужно просто принять.
Что такое принимаемое? Принимаемое не есть просто факт, потому что оно
содержит в себе незнаемое. В слове “свобода” мы принимаем нечто, чего мы не
знаем в смысле знания. Свобода непосредственно достоверна и, будучи
непосредственно достоверной, не есть при этом достоверность предмета, факта,
эмпирии. Так вот, независимое в словах “свобода”, “сверхъестественное
внутреннее воздействие” и т. д. нужно просто принять, принять факт,
на вопрос о возникновении которого нет никакой необходимости отвечать. Что и есть.
конечно, принятие откровения. Но принять его философским, а не религиозным
способом. Мы не рассматриваем, откуда и что как получилось, если приняли,
т. е. усматриваем из разума априори, а не из фактов, независимо от фактов.
Например. феномен совести мы усматриваем априорно, независимо от фактов; это
видно хотя бы из того, что все, что мы можем принять, ссылаясь на факты, не
есть совесть, а совесть есть то, где мы ссылаемся на ее саму, а не на какие-то
факты. Мы не можем никакого факта привести там, где совесть. Там, где все
остальное — польза, выгода, целесообразность и т. д., — можно
привести факты. А здесь мы не можем привести факты. Это есть априори,
т. е. то, что Кант называет “квид-юрис”. “Квид-юрис” есть “квид-факто”,
поскольку это дано, только особым образом надо понимать факт. И здесь суждения
нравственности ничем не отличаются по своей структуре от познавательного
суждения. Какого суждения?
Например, в издании «Трактаты и письма», где бьется первус пробанди всей
кантовской мысли, часто встречается рассуждение о месте души. Где место души? А
место души везде там, где тело, человеческое тело, весь человек. Вот это есть
суждение или, вернее, умозаключение разума. Этот вывод несомненен, но он не
есть опытное суждение. Вся совокупность опыта относительно души, взятая в
целом, говорит нам, что мы и мыслить иначе не можем, чем мысля, что сознание
везде, где тело, весь человек, не внутри тела где-нибудь в локализованной
части, а там, где я в качестве телесного субъекта, там и сознание, там душа. И
это известно независимо от фактов. Вот как надо понимать априорное суждение
разума или априорное умозаключение разума, когда Кант об этом говорит. Ведь мы
не фактами доказали и не можем доказать, не можем понять. где место души? Разум
нам говорит, где место души, а не факты. Мы не можем мыслить иначе, во-первых и
во-вторых, если мы помыслим иначе, то все целое опыта развалится. В этом смысле
необходимое понятие разума есть вот это утверждение. Утверждение, что душа
везде, где тело; если вы ищете, где место души, то оно там. где мыслящее тело.
Это умозаключение, во-первых, явно построено как тавтология, потому что в
действительности оно говорит лишь следующее: сознание есть сознание в отличие
от тела. Когда мы хотим его локализовать, мы пользуемся телесными терминами,
следовательно, мы не можем его локализовать, поэтому мы должны согласиться с
тем, что оно везде, где есть тело, везде, где есть человек. Вот что такое
разумное априори у Канта.
Я это приводил лишь в качестве примера разумного суждения, чтобы выйти на
одну очень важную тему, а именно: во всех словоупотреблениях — место души,
сверхъестественное внутреннее воздействие, выявление феномена свободы
и т. д. — пространство есть элемент изменения как моего изменения.
Само определение того, что значит воспринять (а всякое восприятие есть
восприятие измененного состояния, предполагающее сознание изменения состояния
как моего изменения в качестве субъекта или носителя этих изменений), входит в
определение или понятие пространства у Канта. По ниточке рассуждений о месте
души или о нас как о части мира, который мы познаем, эта тема у Канта
развивается в форме рассуждения о многомирности или о множественности миров в
метафизическом смысле слова. Обычно тему “множественности миров” мы
представляем — и это естественное, законное представление — в виде того, что
(начиная с Бруно такая тема существует) в некой бесконечности есть множество
миров в смысле множества планет, множества галактик. Идя в эту бесконечность,
мы идем не в какую-то пустоту, а в бесконечную множественность миров, отличных
от нашего. Эта бесконечность, так сказать, в бесконечном протяжении, в
бесконечных пространствах. Кант же говорит о другом. Он говорит о
метафизической множественности миров, а метафизическая множественность миров —
это множественность миров, возможная в точке. Не нужно далеко идти, вот там,
где место души (а место души там, где человек), — вот в той точке возможно
множество других миров. Почему? С чего это вдруг? Пространства будут
допустимые, разнородные, говорит Кант. И в этом смысле он берет понятие
пространства как имплицированное в самом определении “что значит воспринять”.
Если восприняли, то уже определились, пространственно определились, оно уже не
какое-то возможное, а мое. И это мой мир.
Возможны другие пространственные определения, т. е. можно иначе
пространственно определиться (ибо в точке нет внешних отношений и возможна
множественность). А если иначе определиться в пространстве? Определиться в
пространстве — значит определиться одновременно и в восприятии. Я сказал, что пространственная
расположенность имплицирована у Канта (это можно прочитать на первой странице
работы «Об оценке живых сил»), имплицирована и в расшифровке вообще, и в
отношении того, что значит воспринять, когда мы можем сказать: “воспринято”, —
не допустить, что воспринято, не предположить идеально свершившимся акт
восприятия, а сказать о чем-то как о реально осуществившемся, эмпирически
осуществившимся акте: “воспринято”. И когда мы установим необратимым образом,
что воспринято, то мир будет определен в смысле этого мира. И раз там, в этой
определенности, фигурирует элемент пространственной расположенности и потому —
определенности, то это значит, что возможно множество миров не в простом смысле
(в смысле лейбницевской множественности миров, которая есть логическая
множественность мыслимых миров), а как множественность миров, по-различному
пространственно определенных и тем самым по-различному чувственно определенных,
т. е. имеющих различные устройства чувственности, различные,
следовательно, по тому, к а к определился акт восприятия
в том или ином мире. Если мы сказали “воспринято”, то уже есть что-то, что мы
можем и чего мы не можем больше. Например, “воспринято” — значит, что мы уже не
можем представить себе способ представления другого существа. А что до этого?
До этого то, что потом Кант будет называть иксом (X), вещью в себе. Давайте “вещь
в себе” будем называть пока независимым миром или миром всех возможных миров, а
определившийся мир, определившийся с включением элемента той или иной
пространственной расположенности, определившей и место души, называть возможным
зависимым миром или миром как представлением.
Я говорил, что опыт принятия мира есть опыт свободы, опыт
сверхъестественного внутреннего воздействия и т. д., и есть,
следовательно, опыт независимого мира, который мы лишь принимаем не зная. Вот
почему для нас была важна область, условно названная нами областью
откровенного. Этот опыт независимого мира, который мы несомненно имеем, имеем в
феномене свободы, нравственности, где нет смены состояний, или опыт вещи в
себе, опыт независимого мира (что одно и то же), который просвечивает в нас
через тавтологию или умозаключения разума, или через то, что мы знаем априорно,
независимо от факта. Это знание (или это знаемое) содержит в себе элемент
незнаемого, которое мы принимаем как данность, оно содержит в себе
метафизический элемент, если понимать метафизику в буквальном значении,
т. е. как нечто, что следует за физикой, в смысле такого элемента, который
неразрешим в терминах этого мира и в котором мы определились в зависимости от
нашего пространства, а не какого-либо другого, инородного ему. Мы определились
в этом мире, и самим фактом или актом определимости возникли вопросы, на
которые мы ответить не можем, но осознать их можем. Это осознание, так же как осознание
свободы и совести, есть фиксация опыта, опыта независимого мира в отличие от
опыта зависимого. Весь опыт последующий, эмпирический, есть опыт зависимого
мира. А тот опыт есть опыт независимого мира. И Кант таким образом, вернее, в
ключе этой ноты, этого аккорда понимает всю тему Просвещения, понимает ее
отличным от других образом и от наших представлений тоже. Понимает ее точно,
грамотно. Просвещение для Канта — и он все время предупреждает об этом — есть
понятие отрицательное. Причем если брать слова в аккорде, мы должны все время
помнить, что когда мы в сочетании со словом “просвещение” встречаем у Канта
термин “отрицательное” или “негативное”, то это должно восприниматься нами
только в аккорде. Отрицательным понятием для Канта является, например, понятие
вещи в себе, не понятие, отрицающее что-то, а понятие, нами принимаемое, но
пустое по предметному содержанию, такое, которым мы не можем определить
предметно. Вот что такое отрицательное понятие. И в этом смысле Просвещение
есть отрицательное понятие. Почему? Потому что Кант говорит: “Просвещение не
есть знание. Просвещение есть принцип: “Только Я сам””. Мыслить самому — вот
принцип просвещения. Это только установка, а не система знания. Просвещаться —
значит мыслить самому и ставить на место всего другого, на место всех других
возможностей, всех других возможных опытов свой опыт. Замещать. Если я нашел
себе место в том, о чем говорится, чем живется и т. д., то я
просветился. Это есть “просвещение” по Канту.
Я говорил об откровении. Так вот, дело состоит в том, что Кант соединяет,
ведет вместе два принципа, и в этом смысле он является как бы завершающей
фигурой эпохи, называемой Возрождением. С одной стороны, для Канта несомненен
просветительный принцип. Он чисто отрицательный Кант не говорит, что вот усвойте
это знание и вы просветитесь. Он не выбирает никакого определенного знания в
качестве источника просвещения, что вот, мол, мир устроен так-то или так-то,
что мы развеиваем наши суеверия и заблуждения, чтобы увидеть истину, и когда мы
это говорим, то показываем, какова она в отличие от заблуждения. Да нет,
говорит Кант, не нужно показывать, какова истина, не об этом идет речь. Речь
идет лишь о просвещении в отрицательном смысле, т. е. принятии лишь того,
что прошло через тебя. через автономию твоего опыта, твоего мышления. Но, с
другой стороны, мы ведь знаем, что то, что откровенно, отличается от всего
остального именно тем, что откровенное не несет на себе признака исследования
по определению, этим откровение и отличается от того, что мы получаем в результате
исследования, в результате действий собственных мысленных сил. И Кант держит
эти вещи вместе, только держит их своеобразным способом. Он показывает, что в
том, что мы назвали просвещением в отрицательном смысле слова, содержится
запрет принимать в состав своего сознания что-либо, автономным источником чего
ты сам не являешься; тем самым обрубается нечто принимаемое по традиции из
внешних источников и т. д. Но ведь откровение явно не ты сам. Ты лишь
его принимаешь. Но что принимаешь? — спрашивает Кант. Независимый опыт. Что
такое независимый опыт? Это опыт свободы. Он содержит в себе метафизический,
далее не проясняемый элемент, хотя и поддающийся представлению в виде чистой
ясности или несомненной ясности тавтологии. Мы даже помыслить иначе не можем —
ну конечно же, место души там, где человек, это как бы на кончике пера открытая
истина. Она — истина, но она на кончике пера, а не по движению фактов.
Значит, соединение этих, казалось бы, двух различных вещей у Канта совершается
очень простым образом. Он говорит (и мы это видим тогда, когда он поясняет):
его наука и знание, их прогресс и развитие не могут разрушать некоторых вещей.
Они, например, не могут разрушать непосредственных очевидностей веры или
нравственности (это одно и то же в данном случае). Обычно считается, что
прогресс просвещения неумолимо вел к распаду с эпохи Возрождения, к разложению
непосредственных, так называемых абсолютных достоверностей, или абсолютных
верований, или абсолютных ценностей и пр. Кант же предупреждал:
просвещение — негативное понятие, негативный принцип. Нужно научиться мыслить
обо всем этом так, чтобы видеть, что достоверности эти неразложимы, абсолютны
по одной причине. Прежде всего потому, что они сами являются основой знания, а
знание не может, как бы оно ни прогрессировало, разложить то, без чего оно само
не могло бы построиться.
Элемент свободы или феномен свободы и достоверности ее места в мире в том,
что я могу поступить определенным образом, повинуясь сверхъестественному внутреннему
воздействию. Этот феномен свободы и есть, в качестве принятого, основа
построения научных методов познания, потому что оказывается, что проблемы
основания, причины, все онтологические проблемы корнями уходят в тот пункт, где
есть разница между двумя вещами: между тем, когда мы чего-то еще не приняли,
т. е. еще не имеем опыта независимого мира, и тем, когда мы уже что-то
приняли и сказали “уже есть” и нет никакой необходимости отвечать на вопрос. Мы
не можем познать, считает Кант, построить весь корпус познания, если не поймем
определенной вещи. Какой именно? Что есть нечто, что мы берем из опыта
принимаемых фактов, которые фактичны лишь потому, что даны, но не потому, что
наглядны и предметны. Этот особый опыт — опыт свободы, опыт сверхчувственного,
метафизический опыт — мы берем из действительности, в которой оказались, когда
приняли невыводимо возможность этой истины, потому что выводимость возможности
была бы нарушением принципа определения своего места, т. е. была бы
нарушением принципа, указующего на не заместимую никем призванность твоего
акта, который только ты можешь совершить, или акта, который я иначе назвал
актом индивидуации или конкретизации. Дело в том, что все, о чем пойдет речь
далее, основано на одной большой интуиции Канта, которую я выражу так:
существенно и важно и необходимо принять, что “уже дано”, и тогда мы кое-что
можем, но кое-что и не можем. Например, скажет Кант, в познании, в действии из
этого принятого ничего не вытекает. Можно понимать совесть, когда она есть, но
понятие совести не содержит определения совестливого поступка. Сознание должно
быть каждый раз заново.
Вот это очень трудно уловить — ничего вывести нельзя. Каждый раз все
конкретно, и поэтому я употребляю слово “конкретизация”, все конкретно и дано.
Лишь постфактум мы можем представить какое-либо совестливое конкретное действие
как вытекающее из нашего представления о совести. Но, по Канту, одна основная
интуиция — это постфактум. Это когда уже коллапсированный мир, когда уже все с
необходимостью свершилось, и теперь я легко могу понять, что причина вытекает
из следствия, потому что эта связь уже есть и я могу ее аналитически разложить,
но основание того, что одного рода вещь, существующая в мире, вызывает в нем
необходимым образом существование совершенно другого рода вещи, — это
непонятно, говорит Кант. Когда уже есть, конечно, тогда легко показать, что
следствие содержится в причине, показать аналитически, но это только, когда уже
есть.
Когда уже свершилось, тогда можно, а на деле все состоит в том, что из действительности
невидимого, принимаемого или разумного нельзя вывести возможность этой
действительности и нельзя никакими ухищрениями отменить тот факт, что я должен
занять в этом мире место и то, как я его займу; т. е., совершив
совестливый поступок, я призван выполнить долг, сказать правду, и это будет
совершаться каждый раз заново в том смысле, что то, что я сделал сейчас “подобающее”
или “правдивое”, нельзя вывести из моего понимания правды или долга. Есть
интеллигибельные объекты: правда, совесть, долг и т. д. — истинно
интеллигибельные объекты. Акты понимания их есть априорные акты, но ничего не
выводимо. Кант имеет дело с высвободившимся миром, с миром, в котором есть для
меня место. Он меня не исключает в области нравственности хотя бы потому, что
ничего не выводимо, все заново, все конкретно, т. е. не только в смысле
нравственности высвобождено для меня место — место в мире, но и в смысле
познавательном.
Один человек очень точно сформулировал наши возможные ощущения, которые
неумолимо у нас возникают, если мы с толком будем заниматься Кантом, т. е.
если сами откроемся.
Повторяю, то, с чем мы имеем дело, — это о нас. И это будет плодотворно
только в той мере, в какой, читая Канта, мы будем читать в книге своей души.
Неразборчивые письмена нашей души мы, возможно, прочитаем, читая Канта. Так вот
один человек, а именно Гёте, так описывал свое впечатление от Канта, которым
можно резюмировать и наше впечатление. А именно Гёте говорил, что, подходя к
Канту, человек испытывает такое ощущение, как будто он входит в светлое
пространство, как будто из темного леса выходит на светлую поляну. Опять
магическая перекличка и соответствие, в этом случае со стороны Гёте. И конечно
же у Канта основная проблема — это пространство, Raum. Это не случайно, что “в
светлое пространство” входит Гёте, который так осознает свое вхождение в
философию при помощи человека, у которого самая основная отвлеченная
метафизическая проблема — это проблема пространства, если видеть в нем “понимательное
место” — место, откуда и где что-то видно. Это “нервус пробанди” кантовской
философии. И он притягивает к себе. Здесь явное соответствие, потому что другой
человек (напомню, что речь идет о внутренней форме корреспонденций), используя,
казалось бы, тот же образ света — это Жан-Поль — выбрал другие слова и сказал: “Кант
— не одна звезда, а целое созвездие”. Ну, это просто красивая метафора. А у
Гёте выбраны иные слова, а именно — “светлое пространство”.
И вот в этом светлом пространстве свет настолько ярок, что ты понимаешь и в
то же время, поняв, ты ничего не понимаешь, т. е. не можешь объяснить
того, что ты понял.
Скажите, пожалуйста, как понимать вот такое (в чем состоит весь кантовский
ключ). Кант говорит: “Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем
вовлекать надежду на него ни в какие свои дела”. Это почти невозможно понять,
что упование на Бога настолько абсолютно, что обращаться к его помощи и ожидать
ее в своих действиях, поступках, занятиях не следует, т. е. мы уповаем
настолько, что не должны уповать. Иначе: если у нас есть вера, то в нас нет
действительного образа устроительного действия Бога, нет надежды.
Или я оберну это еще иначе. Кант, например, утверждает, что мы свободны лишь
потому, что виноваты, лишь полная вина делает нас свободными. Как это понять?
Вот это есть тот свет. Когда мы внутри его, то, конечно, нельзя говорить о
свете, который внутри тебя, потому что говорить — значит говорить со стороны,
по определению.
Не было бы ответственности и свободы, если бы не было вины. Почему? И что
значит здесь полная вина? Или упование на Бога, полное, абсолютное? А оно
только может быть абсолютным, и, будучи абсолютным, оно означает, что мы
последние кретины и язычники, если пытаемся вовлечь Бога в наши собственные
дела. “Не там Бог!” — говорит Кант. Именно потому, что мы не можем быть богами,
мы можем быть нравственными, именно потому, что есть полнота вины, мы можем
быть ответственными, т. е. свободными. Как это помыслить?
Есть что-то, чего мы можем достичь, лишь отказываясь от человеческой
природы, и в то же время мы от человеческой природы отказываться не можем. Кант
считает, что он, может быть, еще этого не знает, не может выразить в словах, но
он таков, таким родила его мать, таким он воспитан дома и таким впервые себя
осознал. Он как бы пытается всю свою жизнь свести к минимуму несчастья быть
рожденным и, как я говорил вам, уже будучи больным и еле стоящим на ногах,
иронически замечает, что легкое тело не может слишком тяжело упасть. А с другой
стороны, в этом же внутреннем облике или во внутреннем образе, который как бы запечатлен
в душе, есть другая сторона, которую мы должны осмыслить вместе с первой.
Значит, то, чего мы можем достичь, — это то, что мы можем достичь, лишь
отказываясь от человеческой природы, от себялюбия, от предрассудка, который
вызывается этим себялюбием и беспечностью или страхом и леностью. Но
предрассудок никогда не исчезнет, человеческая природа всегда останется,
понимает Кант, к минимуму можно свести несчастье быть рожденным, но и гримасы,
вызванные пониманием несчастья быть рожденным, тоже неприемлемы.
В каком-то широком смысле норма для Канта — это гримаса, хождение в церковь
— гримаса, креститься — гримаса. Это основной пафос у Канта. Причем одно и то
же отвращение к гримасам или к тому, что он называет гримасой, есть очень
странная вещь. Наружное стояние в позе или держание какой-либо позы, по Канту, —
это гримасы тела или гримасы мысли, духа. Скажем, гримасы духа — это излишние
пристройки, как он выражался, для общения с тем миром. Зачем?! Когда есть
нравственное чувство, говорит Кант. А оно ясно и самодостоверно. И оно не
нуждается ни в чем лишнем, что Кант называет гримасами.
Попытайтесь соединить это со следующим образом. Есть знаменитый эпизод в
биографии Канта, который, например, рассказывает Васианский. К умирающему Канту
приходит врач. Он принимает врача, стоит, пошатываясь на ногах, и говорит
что-то совершенно невнятное, распадающееся, никак не связанное в артикулируемую
речь. Врач не понимает. Часто повторяется отдельное какое-то слово. Васианский
объясняет врачу, что Кант говорит то-то и то-то. Врач с недоверием относится к
толкованию Васианского, но его сомнения рассеиваются. когда он вдруг в
неразборчивом потоке слов слышит следующие слова. Сейчас я пока их не скажу, а
в биографии они объясняются так, что Кант не может сесть (врач хочет его
осмотреть и по крайней мере усадить, если не уложить больного), пока не сядет
гость. Ну, кто из нас может воспринять врача как гостя в доме? И следовало бы
по правилам вежливости, приличия не садиться, пока не сядет гость. Врач не
поверил в такую интерпретацию до тех пор, пока не расслышал связные слова, а
именно: “Меня еще не покинуло чувство принадлежности к человечеству”. Вот это
Кант. С одной стороны, быть человеком — это несчастье быть рожденным, а с
другой стороны, он держит себя чувством принадлежности к человечеству, выполняя
пустые, формальные признаки этой принадлежности, например простое правило
учтивости, странным образом распространенное на больного, который должен лежать
в постели или подавать врачу в виде приветствия в лучшем случае один палец
правой руки. Нет. Я в моем доме. Врач мой гость, и я не могу сесть, пока гость
стоит. А стояло шатающееся на ветру легкое тело, которое, как я говорил, не
могло слишком тяжело упасть.
Вот, с одной стороны, чувство принадлежности к человечеству, а с другой —
отказ от человеческой природы (и тогда мы чего-то достигаем). Как это помыслить
вместе?
Как мыслит Кант? Вот вся наша проблема: а как это делается, чтобы так
мыслить? (А мыслить можно только так, конечно, только это мышление достойно
называться мышлением, т. е. когда человек говорит то, что я сейчас
процитировал.) Но как это делается? Но как сделать так, чтобы так мыслить? Вот,
собственно говоря, единственное, чем имеет смысл нам заниматься.
Эту мысль я выскажу метафизически в какой-то форме, скажем, так: есть
понятия — “упование на Бога”, “ответственность”, “свобода”. А со стороны
личного облика Канта я могу подкрепить эту основную внутреннюю форму его
личности и мысли напоминанием, что Кант был удивительно пластичным человеком,
человеком полной раскованности и естественности в свободе и нравственности.
Ведь нравственность всегда для нас есть факт выполнения нормы, а норма, по его
определению, — это то, что делается без стесненности и скованности.
Кант был свободен и раскован, когда приходил в движение. Он знал, что, пока
нет движения, любой ученый с бездной мудрости в голове подобен сидящему рядом
тупице. Кант знал это. Приведите в движение, говорит Кант, каким-нибудь
вопросом человека, и окажется, что он во время рассказа, объяснения или
доказательства сам для себя с удивлением обнаружит, что знает такие вещи,
знания которых он в себе не предполагал.
Так вот, Кант, приходя в движение, совершенно не чувствовал себя обязанным
рассказывать о свободе, т. е. о самом себе как свободном. Он, наверное,
считал, что это естественно, во-первых, а во-вторых, следовал правилу, что в
обществе нельзя долго или много говорить о себе. Вот какая-то странная, без
гримасы, не судорожная нравственность. И это видишь в Канте. Еще раз
удостоверишься в этом, когда вдруг прочтешь текст какого-нибудь немецкого
доцента, вроде книги Паульсена, где описан эпизод, как Кант ответил на
высочайшее повеление и письмо короля Фридриха II Вильгельма, который задал
ему взбучку за его высказывания о религии и запретил вообще этим делом заниматься,
на что Кант сказал, что он никакого отношения к делу не имеет, никакой молодежи
не развращает и т. д. и, как верноподданный короля, не будет больше
об этом высказываться.
Паульсен комментирует (уже XX век), что, конечно, правильно сделал
Кант, но все-таки, если бы он дал отповедь королю, этот эпизод в
интеллектуальной истории Германии был бы более красивым. Ну вот, доцент ожидает
жеста. Он полагает, что Кант должен встряхнуть волосами, гневно сверкнуть очами
и воскликнуть: “Долой тирана!” Так, кстати, часто понимают одну странную мысль
у Канта (что у нас есть словарь того, как должна выражаться высокая
нравственность, знаки расставлены: мы ждем, что если человек нравствен, то он
должен был бы расставлять перед нашими глазами эти знаки; а что значит быть
героем здесь? Это значит послать к черту тирана и призвать на баррикады. Но это
наш словарь).
Вот эта фраза: “Я, конечно, никогда не скажу всего того, что думаю, но
всегда буду говорить лишь то, что думаю”. Мы, конечно, предполагаем, что у
Канта были тайные политические, радикальные идеи, которые он по трусости своей
скрывал. Да нет. Конечно, человек такого света, о котором я пытался говорить,
должен был, во-первых, очень осторожно обращаться с окружающими и не говорить
всего, о чем думает, а во-вторых, ведь ему самому было трудно, почти невозможно
узнать, что он думает. И это доказывает его биография. И я говорил, что к концу
жизни он бесконечно повторялся. Да, он все время ловил за хвост промелькнувшую
перед носом жар-птицу, но она перед ним промелькнула — поди расскажи об этом
другим. И он начал рассказывать так: на каждой странице по десять повторений,
мысль кружится на месте; когда упрекают его в этом, то можно подумать, что это
говорят люди с большой мускулатурой мысли.
Так вот, возвращаясь к представлению, будто Кант — ригорист. Это бред. Не
было такого философа. Не было Канта — холодного ригориста. Это, мы знаем, был
вежливый, воспитанный человек, с душой всегда полной чувств, ни о ком зло не
говоривший по принципу — в том числе, потому что люди есть люди. Фактов морали
(я снова напоминаю — свет!) в мире вообще нет. И Кант говорит, что в мире,
очевидно, вообще никогда не было примера истинно доброй воли. Представьте, как
этот человек мог судить о людях. Он знал, что это только люди и чем скорее это
кончится, т. е. его жизнь кончится, тем лучше, а с другой стороны (потому
что он это знал), он был к ним добр, относился с пониманием к ним, считая, что
по внешним поступкам (а поступок всегда внешнее) может судить о человеке только
тот, для кого открыты тайны его души. А для нас, людей, тайны души не открыты,
поэтому судить по поступкам нельзя. Еще один парадокс, если угодно. И вот
представление, возникшее в русской мысли о Канте, где образ Канта замкнулся на
блоковском слове “кантище”. Ну, я не знаю, откуда все это взялось и как
выдумано. Непонятно. Вообще в истории самое непонятное — это непонимание. Кант
ведь реально считал, что, как говорят англичане, “сделаться все может, только
без нажима”. Расслабьтесь. Но при этом Кант владеет страстью показывать, как на
самом деле обстоят дела, когда мы говорим, когда мы поступаем, когда мы
стремимся, когда У нас есть порывы, нравственные побуждения.
Что на самом деле? На этот вопрос Кант отвечает строго. Пытается именно на
него ответить и показать, что это не зависит от наших побуждений, от наших
намерений, что мораль — это не моральное побуждение, а мораль, что мысль — это
не потуги мысли, а мысль. Ничего не поделаешь.
Это, очевидно, и навело ужас на людей, которые к тому же не поняли, о чем
идет речь: В их воображении Кант замкнулся на некотором чудовище, сидящем за
ширмой, как У Блока,— некий напуганный, сгорбленный старичок и пугающий к тому
же.
В действительности, конечно, ядро и семя кантовской мысли в умозрительных
истинах, о которых я говорил, приводя примеры упования на Бога, настолько
абсолютны, что нечего уповать: вина настолько полна, и только если полна,
только тогда можно быть свободными, т. е. ответственными и вменяемыми: и
мы такие жалкие, что только поэтому мы можем быть высокими, т. е.
нравственными. и если мы не будем “стулья ломать”, расслабимся, тогда в нас
родится нравственный свет и мы окажемся в сфере нравственности. Поэтому,
собственно говоря, это семя и плодоносит, из него все вырастает и оно содержит
все во всем. Плодотворящее семя кантовской мысли в том, чтобы найти и
высвободить в мире место для меня с моим действием и мышлением. Поэтому Кант и
формулирует с самого начала свою задачу как задачу “высвобождения”. И это не в
поздней работе, хотя сама формула — с поздней, здесь она сокращенно обозначена
немецким словом aufheben, в русском переводе: “снять знание, чтобы освободить
место для веры”. Ясно, конечно, перевод никуда не годится. Здесь употреблен
один смысл немецкого слова aufheben, a aufheben — это еще и приподнять. чтобы рассмотреть,
т. е. выделить, поднести к глазам и посмотреть. Нужно выделить знание в
этом смысле слова и посмотреть на него, чтобы поместиться в мире, который
описывается знанием, чтобы в этом мире было место и для меня с моим действием и
моим мышлением. Вот задача Канта. Никакой другой формулировки, даже вообще
философской задачи быть не может. Если не начинается с этого, то вообще нет
никакой философии. Она все время новая, она каждый раз должна создаваться
заново, в том числе и мы должны начать искать свое место в мире. Оно отведено
нам, можете не беспокоиться, есть для каждого, только узнать нам трудно, потому
что окна нашей души загрязнены и засорены. Их прочистить надо. Философия и есть
один из человеческих, жалких способов прочищения.
Значит, повторяю, надо высвободить место в описываемом мире (а описываемый
мир нужно знать), высвободить в нем место для меня с моим действием, и с моим
мышлением, и с моей полной чувств душой, которая сама должна быть событием в
мире, а она может быть событием и мире, а может и не быть.
Не может быть склонности к добру, т. е. к чему-то, что само собой будет
действовать так, как будто оно уже у нас есть и действует, и мы уже можем
специально о нем и не помнить. Ибо добро, по глубокому ощущению Канта, должно
специально делаться с имением силы на это или внутреннего состояния. А
внутреннее состояние есть то, что Кант в своих естественнонаучных занятиях
вытаскивает и превращает в проблему формы.
Давайте известную нам оппозицию, парную категорию форма — содержание выразим
так: разбив слово “содержать” или “содержание” дефисом, чтобы почувствовать,
что такое в действительности форма. Форма — это то, что со-держит. Так
же как хорошо скованный обруч содержит. Форма есть некоторое со-пряжение или
напряжение такое, что оно может держать. То, что держится,— то и будет
со-держанием.
Так вот, добро, оказывается, есть такое содержание, которое должно
со-держать. Ибо мы ясно понимаем тогда, что такое зло в метафизическом смысле
слова, в философском смысле того, что мы можем понять нашим духовным ощущением.
Зло — это просто предоставление себя стихийному ходу дела, потоку.
Распущенность. И для Канта важно преодоление этой склонности, потому что
предоставление чего-то стихийному ходу есть склонность или изначально злое,
присущее человеческой природе. Если мы начинаем говорить в этой связи о форме и
о духовном ощущении, которое форму схватывает, и о том, что форма должна
держать, то мы явно не имеем в виду просто психологические качества человека,
которые, как картофелины в мешке, лежали бы в его душе и были бы, таким
образом, ей свойственны. Но поскольку у нас тот язык, который есть, мы только
так можем говорить. То же самое выражает Кант, и лишь из конкретного текста
рассуждением мы можем восстановить иное, что есть нечто изначально злое в
человеке. А что такое изначально злое в человеке? Конечно, не злоба в
психологическом смысле слова, не агрессия, как мы могли бы понять из науки
этиологии о человеке, перенеся на него то понимание, которое достигается путем
наблюдения за животными. Это наблюдение многое позволяет понять, но все-таки не
то, чем занят Кант.
Таким образом, есть эта наша наклонность ко злу, ну, хотя бы потому, что
человек слаб и не выдерживает духовного ощущения, или чувствования идей, или
философствования, что одно и то же. (Обратите внимание на оттенок: я говорю —
философствование о чем-то, что является элементом жизни, а не теории. Вот когда
мы что-то со-держим, это предполагает духовное ощущение и тем самым
предполагает, что мы проделали, знаем мы об этом или не знаем, акт
философствования.)
Так вот, преодолеть склонность, которая, например, просто вызывается
усталостью, нашей человеческой и природной невозможностью неопределенно долго
пребывать в состоянии большого напряжения, — мы естественным образом сделать
это не можем. А то, как мы это делаем, и описывается понятием формы, т. е.
здесь понятие формы определяется как нечто отличное от естественного. Итак, для
преодоления нашей наклонности к злу недостаточно ни собственных сил человека
как природного существа в смысле его психологических побуждений, порывов,
намерений, ни усовершенствования социального строя. Кантовская мысль движется
по острию ножа между двумя вещами, которые она одинаково отвергает, с одной
стороны, это то, что мы в себе сознаем, и то, чего мы не можем не любить, сами
себе угождая, а именно наши возвышение состояния души, прекрасные намерения,
добрые порывы и их психологический знак (т. е. “добрый” — я же чувствую,
сознаю, что он добрый! — и этого достаточно, чтобы считать себя добрым). Но это
все пустое, считает Кант, если нет формы. Только на форме все может держаться,
а не на наших намерениях, порывах (намерения в смысле порывов быть храбрым,
быть добрым, т. е. некие потуги, осознаваемые в себе в терминах “добро” и т. п.).
Так этого всего недостаточно. И то, что коррегирует это, то, что не может
держаться на психологии, а может держаться на чем-то другом, вот то другое, на
чем это держится, есть то, что Кант будет всегда называть формой. А пока мы
имеем дело с кантовской интуицией формы. Он понял, что только нечто, “как
таковое”, “само по себе”, нечто со-держащее, и может называться формой, в том
числе и в теоретических проблемах. Это и форма мира или мир как форма, как
связанность, внутри которой мы находимся (а мы находимся внутри), потому что о
чем, как не о мире, мы можем говорить, если случилось соединение.
Следовательно, мы всегда внутри.
Другая сторона прохождения по острию ножа — это внешняя сторона. Значит,
психология — это внутреннее, этого нам недостаточно, чтобы быть добрым. А есть
еще объективные или видимые опоры. Это, например, устройство общественной и
социальной жизни вокруг меня или устройство вовне в виде некоторого
усовершенствованного социального строя. Ну, буквально с первых шагов юноши
Канта можно видеть, что его мысль оформляется как нечто увиденное им в
противоположность этому расхожему и до сих пор господствующему представлению.
Этот феномен Кант вводит парадоксальным образом, который сразу спрашивает
нас. Кант не может принять, что для того, чтобы быть человечным, должны быть человечны
обстоятельства существования. Это неприемлемо. Стоит принять это, и разрушается
для Канта весь человеческий мир, и как мир жизни, и как мир, в котором что-то
можно высказывать и вообще о чем-то говорить на человеческом языке. Сфера
морали открывается только в области, которую я уже называл, в области полноты.
А именно в области чего-то такого полного, которое есть и в сфере которого мы
есть, если нет никакой пользы, никакого “для чего”, никакой внешней опоры в
виде хорошо устроенного дела или хорошо устроенного общества. Если мы о добре,
о благе будем рассуждать в терминах награды или выгодности быть благими,
считая, что благо оправдывает себя и способствует выживанию человеческого рода,
т. е. если мы пользуемся возможностью вносить какие-то объяснительные
термины в феномен понимания морали, мы будем вне этого феномена, вне морали. По
определению, мы в области морали только там, где есть лишь форма или полнота.
Есть особая реальность формы. Кант приводит такой пример: можно построить
ряд, в котором по отношению к человеку, который солгал, можно показать, что он
воспитывался дурно в семье, потому что у него были такие-то родители. Более
того, в жизни, в реальной биографии у него сложились такие обстоятельства, что
единственным спасительным выходом для него была вот эта его способность
прибегнуть ко лжи. Иными словами, мы выстраиваем предметный ряд оснований,
который должен иметь конечное звено — поступок человека. Человек солгал.
Объясняя этот поступок, мы проходим ряд: одно основание, основание этого основания
и т. д. Так мы можем объяснить уголовное преступление — описать
социальные причины, причины плохого воспитания и т. д. И казалось бы,
поступок должен быть конечным звеном самого этого ряда. И Кант говорит
неожиданную вещь, правда, единственно возможную, которую мы, как человеческие
существа, можем осмыслить и сказать, но в то же время вещь совершенно
непонятную. Но зацепкой для нашей возможности понять, что сказал Кант, являются
слова — предлоги и наречия, которые он там употребляет. Все это так: он плохо
воспитан, жизнь сложилась так — весь этот предметный ряд,— но в момент, когда
он лгал, он полностью сам являлся источником своего поступка и несет поэтому за
него полную ответственность, которая неразделима по всем звеньям, перечисленным
в этих рядах. “В момент, когда”. Смыслы в мире Канта случаются
так. “В момент, когда...” смысл прежде всего дискретен, в том смысле, что он
неразделим по звеньям никакого ряда обоснования. Есть какой-то момент
остановки. Смысл извлекается в точке остановки, основанием которой не является
весь ряд преобразований и не являются содержания точек, выстраиваемых в этом
ряду. В момент, когда я солгал, установился полностью смысл того, что я сделал.
Я солгал и полностью за это ответствен. И эта ответственность не может быть
разделена и одной частью возложена на одно звено эмпирического ряда, скажем, на
случай, другой своей частью на воспитание, характер родителей, третьей — на
звено социальных обстоятельств жизни и т. д. Вот это горизонт,
который раскрывается первотавтологией. Все остальное будет разными вариациями
этой тавтологии. То есть лгун — лгун, а не несчастный и по понятным нам
причинам заблудший человек, не отвечающий за свои собственные поступки. Так же
как добрый человек добр, т. е. в акте реализуется то, что вовне
представляется объектом достижения. Нет, я не отрицаю, что к воровству, ко лжи
могут толкать эти звенья рядов — плохое воспитание, бедность. Но мыслить об
этом нужно по закону того, что “в момент, когда” все — целиком, и вся
ответственность едина и неделима. Потому что все равно можно не солгать, все
равно можно не украсть. Формальное всегда появляется там, где то ли история нас
научит, вбивая молотком несчастья в нашу голову понимание этого и сожаление о
бессмысленно растраченных и ушедших годах, то ли наше собственное усилие
понимания. Все они вызывают ясность того, что неужели для того, чтобы
быть человечным, должны быть человечно или хорошо устроены обстоятельства
существования, в том числе социальные обстоятельства. Для того чтобы в мире
было добро, недостаточно никакого внешнего устройства. Внешнее устройство
всегда существует неформальным образом. Это предмет так или иначе
структурированный или организованный. Нет, скажет Кант, здесь главное не
предметы, как бы они ни были организованы, а форма, проходящая через предметы в
чистом своем виде.
Я дам еще одну линию ассоциаций. Она состоит в следующем. Форма как
возможность структуры, форма как нечто, что лежит в области полноты, есть для
Канта такое образование, от свойств которого все остальное в мире зависит, в
том числе и социальные проблемы, социальное, нравственное благо человека как
конкретного, т. е. как не святого существа. Что я хочу сказать?
Вот, например, де-факто имеют место в мире несправедливость, угнетение,
неравенство людей, извлечение одним кем-то выгоды из несчастного положения
других, мы в своем счастье живем за счет несчастных, буквально за счет
несчастья других. По Канту, все это так. Все это есть. Но главное — не этим
нужно заниматься, потому что это будет. Главное для Канта, чтобы в форме
не было оснований для угнетения и несчастья других людей. Исправить конкретные
эмпирические несчастья: неравенство, уродство социальной и другой жизни — мы,
по Канту, в принципе не можем в том смысле, что мы не этим должны заниматься
как философы. Это может уменьшиться. Можно даже представить, что это
когда-нибудь исчезнет, но это не предмет человеческой заботы, когда человек
заботится о своей душе или философствует. Проблема в том. чтобы в самой форме
не было оснований для зла и несправедливости. Поэтому скажем, Кант — правовик.
В каком смысле? А вот в этом простом смысле.
Мы конечные существа, и даже если бы у нас было идеальное, божественное
право, мы все равно не могли бы это право осуществить. Почему? В том числе и
потому, что пока у нас будут побуждения и намерение, будет действовать форма, а
не наши побуждения. Так вот об этой форме и нужно заботиться. Ну, скажем, что
есть форма судопроизводства. Но если мы полагаемся на то, что мы будем
воспитывать судей порядочных и честных, не берущих взятки бриллиантами и
живностью, то мы никогда суда праведного и справедливого иметь не будем, потому
что, пока мы будем к этому стремиться, будет действовать форма, формальный
элемент. И беда, если он не развит — формальный элемент, а именно суд, в котором
нет разделения власти, суд, который не отделен от государства в виде
независимого института судей, суд, который не имеет, в свою очередь,
независимой прокуратуры, где прокурор, жертва и адвокат слиты все в одном лице
(а это лицо — всегда наше побуждение, порыв и, как выражались русские мыслители
еще в прошлом веке и твердили это и в начале нынешнего века, инстинкт правды).
Так вот, по Канту, если есть инстинкт правды, то инстинкт правды будет у вас в
головах, но действовать будет форма. И лишь она своей со-держательностью может
нейтрализовать неизбежные человеческие пути и их коррегировать. Поэтому нужны
не честные судьи, а прежде всего независимые судьи. И только это скоррегирует
неизбежную случайность того, честен человек или бесчестен, глуп или умен.
Это ощущение формы не только продукт философствования (хотя оно может быть
вначале продуктом философствования), но еще очень часто продукт определенного
рода культур, и, поскольку я разговариваю в рамках культуры бесформенной,
чувством формы не обладающей, поэтому я все время тычусь в эту дверь, пытаюсь
все это дело выразить и объяснить, в том числе и для себя, потому что мне тоже
нужно со-держаться.
Недавно я читал книжку о Давиде Гилберте, написанную одной дамой. Там есть
эпизод, который очень хорошо показывает чувство формы буквально на уровне
глубоко укорененного культурного чувства, когда человек, влекомый этим
культурным чувством, сам не осознает его в тех терминах, которые я сейчас
употребляю, в терминах формы. Но это и неважно. Как есть чувство идей, по
Канту, так же у Канта и в некоторых культурах есть чувство формы. Там
рассказывается такой эпизод, происшедший с Давидом Гилбертом в 1933 году,
в то время, когда Гитлер уже фактически пришел к власти, хотя вся полнота
власти ему не принадлежала: Гинденбург был еще президентом, а Гитлер был
канцлером, но первые проскрипционные антисемитские законы нацистов были уже
провозглашены, и, согласно им, уже из всех центров культурной или экономической
жизни силой стали элиминироваться евреи. В том числе эту проблему ощутил на
себе и Гилберт, потому что к этому моменту он был руководителем возникшего
наконец в Геттингене математического института, в который превратился бывший
математический факультет Геттингена. Этот математический институт, руководимый
Гилбертом, к тому моменту собрал (так расположился парад планет) весь цвет
математики, и этот цвет математики частично был представлен математиками
еврейской крови, еврейского происхождения. Согласно законам, Гилберт должен был
их увольнять. Кого он должен был уволить? Он должен был уволить Куранта,
впоследствии очень известного американского математика, эмигрировавшего в
Америку, должен был распроститься с Бернайсом (тоже звезда на математическом
небосклоне). Должен был расстаться и с Эми Нетер, известным математиком и
физиком, автором фундаментальных теорем, и с другими (я перечислять не буду). И
дело даже не в том, что Гилберт переживал, естественно, он переживал, был в
отчаянии, но главное — форма его переживаний, а именно детская и наивная,
ничего не понимающая форма. Он говорит Куранту (обратите внимание на оборот
фразы — такую фразу по наивности, по простоте душевной может сказать лишь
человек, принадлежащий к культуре, в которой это уже формально стало настолько
автоматическим, что без этого даже мир не мыслится, любой другой мир
удивителен): “Слушайте, почему вы не подадите в суд на правительство? Ведь
правительство беззаконничает”. Автор дальше комментирует: Курант видел, что
Гилберт просто не понимает, что происходит. Но это не есть эмпирическое
непонимание. Это то непонимание, хорошо известное нам, российским гражданам,
когда мы пытаемся объяснить, как мы живем — другой этого не понимает. Вот в
этом смысле было непонимание. Потому что, продолжает далее автор, в Гилберте
глубоко была укоренена, глубоко сидела его вера — во что бы вы подумали? — в
прусскую правовую систему. А ведь Пруссия для нас есть образ авторитаризма,
беззакония. Далее рассказывается еще более забавный эпизод. Вы помните, закон
есть один из классических случаев формы. Чтобы проиллюстрировать Гилбертово
непонимание происходящего и пояснить его глубоко укоренившийся инстинкт доверия
к прусскому правосудию, автор рассказывает следующий исторический анекдот,
который описывает событие, происшедшее во времена Фридриха Великого, где-то
перед Семилетней войной. Я специально дату подчеркиваю — с тех пор прошло более
200 лет. 200 лет назад в Пруссии происходит что-то по чувству формы
такое, что для нас недостижимо сегодня. Фридриху Великому мешала и докучала
своим шумом какая-то находящаяся рядом мельница, принадлежавшая крестьянину. Он
пригрозил этому крестьянину конфисковать мельницу, на что крестьянин ответил
ему: “Но в Пруссии еще есть судьи!” Я подчеркиваю не саму эмпирию анекдота, а
то, что крестьянин естественным и инстинктивным образом так думает. Но в
Пруссии “еще есть судьи”, есть к кому обратиться, подать в суд на
правительство, т. е. на короля. Король, согласно этому анекдоту, смутился,
был приведен в состояние замешательства этими словами крестьянина. И продуктом
этого недоумения было то, что он велел на своей летней резиденции выгравировать
или “вырельефить” эти слова крестьянина: “В Пруссии еще есть судьи”. И по
свидетельству очевидцев, эта надпись на фронтоне здания в 1933 году была
еще в полной сохранности. Очевидно, такое чувство формы является очень
деликатным и тонким продуктом, неким гумусом. Люди прекрасно понимают, что
нужно, чтобы на земле что-то выросло: надо создавать культурный слой почвы,
класть миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром — и так довольно
долго. Очевидно, что в Пруссии, чтобы в тысяча семьсот каком-то году ЭТО могло
быть естественным образом сказано, до этого 200 лет должно было пройти. А
если мы сейчас этого естественным образом сказать не можем, нам и в голову
просто эта возможность не придет, то сколько же нам нужно лет, если мы сегодня
начнем?
Рассказав вам это, я фактически задал вам внутреннюю форму кантовской души.
И понять и ухватить это достаточно, для того чтобы потом многие вещи в
кантовском тексте, в его очень сложной философии становились бы на свои места и
приходили бы в какие-то для нас постижимые связи.
Вся проблема, по Канту, не в том, чтобы хорошо устроить жизнь, а чтобы была
форма, во-первых, и, во-вторых, чтобы она не содержала в себе оснований для
зла, уродства и извращения. И все это не мы сами и не в нас, как случайных,
эмпирических индивидах, а в форме.
|
|
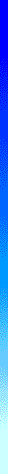
|

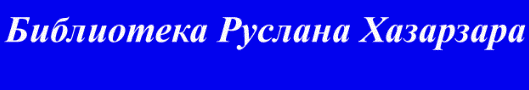

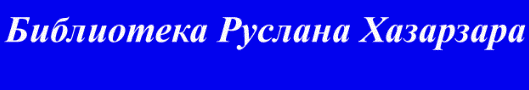
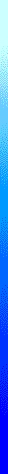
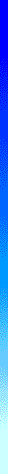



 37 Kb
37 Kb