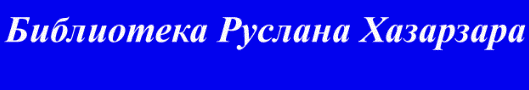
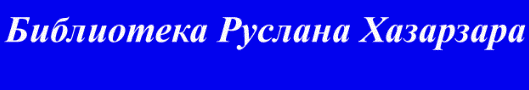 |
Перевод И. А. Макарова

(1) «И сказал Каин Авелю, брату своему: «Выйдем на поле». И случилось, когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт.4:8). Желание Каина таково: вызвать Авеля на спор и с помощью правдоподобных и убедительных софизмов сделать его своей добычей. Ибо мы утверждаем, заключая о неявном на основании очевидного, что поле, на которое он призывает его явиться, — знак борьбы и сражения, (2) В самом деле, мы видим, что и в мирное, и в военное время большинство соревнований происходит на полях. В мирное время к стадионам и просторным полям устремляются все, кто ведет борьбу, участвуя в гимнастических состязаниях. А во время войны пехота и конница обыкновенно сражаются не посреди холмов: ведь места сражения в случае их негодности могут, пожалуй, причинить ущерб больший, чем тот, что наносят друг другу противники.
(3) Но вот важнейший знак. Упражняющийся в знании, который воюет с противоположным состоянием — невежеством, всякий раз предстает взору на поле, когда он, вразумляя и умеряя неразумные силы души, как бы пасет их. Это явственно доказывает, что поле — знак соперничества. Действительно, «послав, Иаков призвал Лию и Рахиль на поле, где стада» (Быт.31:4). (4) Зачем же он зовет их? «Вижу лицо отца вашего, — сказал он, — что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною» (Быт.31:5). Пожалуй, я ответил бы: «Ты не нуждаешься в Лаване, потому что с тобой Бог». Ведь в той душе, в которой более всего почитается внешнее чувственно воспринимаемое, не найти подобающего рассуждения. А в той, в которой повсюду ступает Бог, не считается благом внешнее чувственно воспринимаемое — Лаван, получивший от него имя и являющийся его обозначением.
(5) Те, которые по примеру отца украшают себя продвигающимся разумом, также избрали поле в качестве подходящего места, чтобы переучивать на новый лад неразумные движения души. Не случайно говорится Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он же отвечал: «Вот я». Он же сказал ему: «Пойди, посмотри, здравствуют ли братья твои и овцы, и поведай мне». И он послал его от долины Хеврона, и он пришел в Сихем. И нашел его человек блуждающим в поле, и спросил его человек: «Что ты ищешь?» Он же сказал: «Я ищу братьев моих. Поведай мне, где они пасут? Сказал же ему человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дотан» (Быт.37:13‑17).
(6) Из сказанного видно, что в поле они управляют неразумными силами внутри них. Иосифа же посылают к ним, чтобы должное и полезное разъяснили ему более мягкие учителя, ибо отцовскую науку он вынести не в силах из-за ее чрезмерной суровости: его основоположения, очень пестрые и имеющие многочисленные сплетения, сотканы из разного. Поэтому Моисей и говорит, что «хитон ему изготовили пестрый» (Быт.37:3), показывая, что он проводник учения лабиринтоподобного и губительного. (7) Философствуя скорее ради государственных дел, чем ради истины, он сводит воедино и связывает три рода благ — внешние, телесные и душевные, хотя они отделены друг от друга всей своей природой. Он считает возможным доказывать, что каждый род нуждается в каждом и все — во всех и что из их совокупности складывается безупречное и действительно полное благо, а то, из чего оно собрано, — только части или первоэлементы блага, но не совершенные блага. (8) Мол, как мироздание — это не огонь, не земля и не что-либо из четырех, из которых было создано целое, но сочетание и смешение этих первоэлементов, таким же образом и счастье обнаруживается не исключительно во внешнем, телесном или душевном самом по себе (ведь каждое из названного приблизительно соответствует частям и первоосновам), но в совокупности их всех.
(9) Итак, чтобы исправить это мнение, его посылают к людям, только прекрасное считающим благом. Оно, по их убеждению, исключительное достояние души как таковой, в то время как внешние и телесные преимущества лишь называются благами, не будучи ими на самом деле. «Вот, — говорит он, — твои братья пасут» и властвуют над каждой неразумной частью из тех, что внутри них, «в Сихеме» (Быт.37:13), что переводится как «плечо» — знак изнурительного труда. Ведь любящие Добродетель берут на себя очень тяжелую ношу — противостоять телу и телесному удовольствию, а также внешнему и порождаемым им наслаждениям, (10) «Пойди, я пошлю тебя к ним» (Быт.37:13), то есть ответь на приглашение и приходи, после того как рассудок сделает добровольным твое устремление к изучению лучшего. Однако до настоящего времени ты только делаешь вид, будто приветствуешь истинное воспитание. В самом деле, когда ты произносишь: «Вот я», — ты говоришь, что готов пойти в ученики, хотя внутренне ты еще не согласился с этим. Эти самые слова, кажется мне, не столько выражают твою готовность учиться, сколько разоблачают твою опрометчивость и легкомыслие. Доказательством этого служит то, что истинный человек немного позднее обнаружит тебя блуждающим на дороге (Быт.37:15). Между тем ты не заблудился бы, если бы вступил на путь упражнений после здравого размышления. (11) Кроме того, и увещевательная речь отца совершенно ни к чему не принуждает, с тем чтобы ты устремился к прекрасному по своему собственному желанию и побуждению. Не случайно он говорит: «Пойди, посмотри, разгляди, обдумай и досконально изучи предмет», то есть «тебе прежде следует познать то, к чему ты намерен прилагать усилия, и уж затем приступать к занятиям». (12) А когда, вглядевшись и обозрев, целиком рассмотришь целое, в дополнение подвергни проверке и тех, которые уже взялись за дело и упражняются в нем: верно ли, что, делая это, они «здравствуют», а не безумствуют, как заявляют ради поношения и насмешки любящие удовольствие. Однако не закрепляй в себе ни образ увиденного, ни суждение о здравомыслии упражняющихся, пока не «поведаешь» и не сообщишь отцу, потому что у только начавших учиться решения переменчивы и некрепки, а у тех, кто уже преуспел в мудрости, тверды. От них и другим необходимо перенять свойство неколебимости.
(13) Если ты, рассудок, именно таким образом будешь исследовать открытые иерофантами Божьи слова, являющиеся законами для любящих Бога людей, тебе не понадобится допускать ничего низкого и недостойного их величия. К примеру, как сможет кто-нибудь из здравомыслящих допустить то самое, о чем сейчас идет речь? Разве правдоподобно, что у Иакова, обладателя царского изобилия, столь большой недостаток рабов и помощников, чтобы сына отправлять на чужбину за вестями о здоровье остальных детей и тем более овец? (14) Его дед помимо многочисленных пленников, которых он захватил, низложив девять царей, держал больше трехсот домашних рабов. Причем ничего в доме не убывало, напротив, с течением времени все во всех отношениях имело прирост. Так что, располагая многочисленной прислугой, не пожелал бы Иаков послать самого любимого сына с поручением, которое легко выполнил бы даже самый никчемный человек.
(15) Далее, ты видишь, что Моисей намеренно указывает на местность, откуда тот его заставляет уйти, а именно: «от долины Хеврона» (Быт.37:14), почти открыто убеждая отказаться от буквального понимания. Хевроном же, сопряжением и сотовариществом, иносказательно именуется наше тело, так как оно соединено с душой и как бы установило с ней товарищество и дружбу. Его впадины — органы чувств, крупные емкости для всего внешнего чувственно воспринимаемого. Черпая бесчисленные качества и выливая их из емкостей на рассудок, они захлестывают и затопляют его. (16) Поэтому в законе о проказе предписывается: «Когда в доме обнаружатся «зеленоватые или красноватые впадины» (Лев.14:37), вынуть камни, на которых они появились, и заменить другими», то есть: «Когда различные качества, произведенные наслаждениями, вожделениями и родственными им страстями, обременяющими и угнетающими всю душу, делают ее более впалой и низкой, чем прежде, — болезненные рассуждения уничтожить, а вместо них дать ход здравым через законное наставление или же правильное воспитание».
(17) Итак, видя, что Иосиф целиком спрятался в телесные и чувственные полости, он призывает его выйти наружу из нор и вдохнуть свободного воздуха выносливости в общении с теми, кто прежде в ней упражнялся, а теперь обучает. Но оказывается, Иосиф продолжает блуждать, хотя мнит, что он уже вышел на дорогу. Ведь Моисей говорит: «Нашел его человек блуждающим в поле» (Быт.37:15), — показывая, что благом является не труд как таковой, а труд в соединении с умением, (18) И правда, как музыку следует осваивать, согласуясь с музыкой, грамматику — согласуясь с грамматикой, да и вообще, каждое умение — не отрицая умения и не пренебрегая им, но согласуясь с умением, — точно так же разумность следует осваивать не с помощью хитрости, воздержанность — не с помощью расчетливости и скупости, не с помощью дерзости — мужество, не с помощью суеверия — благочестие, да и любое другое из знаний добродетели — не отрицая знания. По общему согласию, все это — отклонение от пути. Для того и дан закон «справедливо преследовать справедливое» (Втор.16:20),что бы мы достигали справедливости и каждой из добродетелей родственными, а не противоположными ей делами.
(19) Если ты видишь, что кто-то в надлежащее время не принимает пищу и питье или отказывается от омовений и умащений, или не заботится о покровах для тела, или стелет на земле и спит под открытым небом, и затем на этом основании приписывает себе самообладание, посетуй о его заблуждении и покажи истинный путь самообладания. Ведь все, что он делает, — бесцельные и бесконечные труды, голодом и прочими страданиями уничтожающие не только тело, но и душу, (20) Пусть некто, пачкающий грязью свой рассудок, очищает с помощью омовений или очищений тело; пусть он, далее, от избытка богатства воздвигает храм, принимая на себя величайшие расходы и издержки, или совершает гекатомбы и не перестает жертвовать быков, или украшает дорогостоящими посвящениями святилище, не скупясь на материал и отделку дороже всякого серебра и золота, — он не должен числиться среди благочестивых. (21) Ведь и этот человек блуждает в стороне от пути к благочестию, чтя обряды вместо праведности, и дарит подарки Неподкупному, Который никогда не примет ничего подобного, и льстит Равнодушному к лести, Который любит искреннее почтение и презирает поддельное. Искренним же является почтение души, приносящей истину как одну-единственную жертву, а поддельным — все, что делается напоказ от изобилия внешних благ.
(22) Собственное имя человека, нашедшего его «блуждающим в поле» (Быт.37:15), не названо, считают некоторые, поскольку и сами словно заблудились из-за неспособности ясно видеть правильный ход вещей. В самом деле, не будь у них повреждено око души, они поняли бы, что это и есть самое подходящее и точное имя для истинного человека — «человек», название, лучше всего соответствующее членораздельному и мыслящему рассудку. (23) Этот «человек», живущий в душе у каждого, порой оказывается правителем и царем, порой судьей и распорядителем жизненных состязаний, а иной раз изобличает нас, выступая в роли невидимого внутреннего свидетеля или обвинителя: не давая даже рта раскрыть, крепко натянутые вожжи сознания останавливают самоуправный и безудержный бег языка. (24) Этот изобличитель задал вопрос душе, когда заметил ее блуждания: «Что ты ищешь?» (Быт.37:15) Разумности? Почему же ты шагаешь дорогой хитрости? Или воздержанности? Нет, эта тропа ведет к расчетливости. Или мужества? Тут рядом дерзость. Или ты идешь за благочестием? Этот путь — к суеверию. (25) А если она скажет, что ищет слов знания и тоскует по ним, ибо они — братья, ближайшие родственники, ни за что не станем ей верить, так как в этом случае она спросила бы: «Где они пасут», а не «где они кормят». Дело в том, что «кормящие» дают неразумному и ненасытному животному чувств в пищу все чувственно воспринимаемое, из-за чего мы, не умея справляться с собой, и оказываемся несчастными, а «пасущие» с их властью правителей и вождей, сдерживая рост вожделений, укрощают одичавших. (26) Итак, если бы она искала тех, кто поистине упражняется в добродетели, она пыталась бы найти их среди царей, а не виночерпиев, пекарей или поваров. Ведь одни подготавливают то, что служит наслаждениям, а другие повелевают наслаждениями.
(27) Поэтому человек, заметив обман, правильно отвечает: «Они ушли отсюда» (Быт.37:17). Он указывает на телесную сферу, давая понять, что все, кто трудится в состязаниях за обладание добродетелью, приняли решение оставить близкую к земле область и подняться ввысь, не увлекая за собой ни одной из телесных язв. (28) Не случайно, мол, он слышал, как они говорили: «Пойдем в Дотан» (Быт.37:17), — что в переводе значит «достаточное отрешение», доказывая, что не средним образом, но в совершенстве научились они оставлению и отрешению от всего не содействующего добродетели. Именно в таком смысле сказано: «У Сарры перестало бывать женское» (Быт.18:11). Ибо страсти имеют женскую природу, и следует заботиться об отрешении от них и достижении мужских черт благострастия. Таким образом, на поле, то есть в борьбе речей, находится и сбившийся с пути Иосиф, проводник пестрого учения, приспособленного скорее для государственных дел, чем для истины.
(29) Среди соревнующихся бывают и такие, которые благодаря сложению тела получают венок без борьбы, поскольку противники от нее отказываются. Не успев даже посыпать себя песком, они первенствуют как непревзойденные силачи. Обладая подобной силой рассудка, самого божественного из того, что внутри нас, Исаак «выходит в поле» (Быт. 24:63), но не для того, чтобы с кем-то соревноваться, ибо все соперники уже пали ниц перед величавостью и совершенным превосходством его природы. Он лишь хочет остаться в одиночестве и наедине беседовать с Богом — спутником и направляющим его пути и души. (30) И вот самое ясное свидетельство того, что отнюдь не смертный общается с Исааком. Ревекка-стойкость спросит у раба: «Кто сей человек, идущий навстречу нам?» (Быт.24:65), — ведь она видит одного и лишь одного запечатлевает. Дело в том, что душа, постоянно держащаяся прекрасного, хотя и способна воспринять не имевшую учителей мудрость, именуемую Исаак, но еще не в состоянии увидеть предводителя мудрости, Бога. (31) Потому раб и отвечает, показывая на одного Исаака: «Сей есть господин мой» (Быт.24:65), — в подтверждение того, что он не способен воспринять Не Имеющего видимого облика и Общающегося незримо. И правда, неестественно указывать на одного, когда перед глазами двое. Но он не увидел Того, на Которого невозможно указать, ибо Тот незрим для всех средних.
(32) По-моему, уже достаточно ясно, что поле, на которое Каин вызывает Авеля, является иносказанием борьбы и сражения. Далее, зададимся вопросом, что служит предметом их исследования, после того как они выступили вперед. Очевидно, противоположные и противоборствующие мнения. Ведь Авель, все возводящий к Богу, — это учение, любящее Бога, а Каин (что в переводе значит «приобретение»), все возводящий к себе, — учение, любящее себя. Причем если любящие себя разделись и обсыпались песком для схватки с почитателями добродетели, то они не прекращают биться, как панкратиасты, до тех пор, пока не отчаются взять верх или пока полностью не уничтожат противника. (33) Они, по известному выражению, передвигают любой камень, заявляя: «Разве тело не дом души? Отчего же тогда нам не заботиться о том, чтобы дом не обрушился? Разве глаза, уши и сонм остальных чувств не являются в своем роде оруженосцами и друзьями души? А соратников и друзей не следует разве чтить наравне с самим собой? Неужели удовольствия и вкушаемые в течение всей жизни наслаждения природа изобретала не для живых, а для умерших или даже вовсе не рождавшихся? Почему мы должны отказываться от приобретения богатства, славы, почестей, власти и всего такого, что позволяет жить не просто безупречно, но и счастливо? (34) Ведь жизнь свидетельствует: так называемые почитатели добродетели почти все бесславные, презренные, приниженные, испытывающие недостаток в самом необходимом, обладающие меньшим достоинством, чем подданные и даже рабы, грязные, бледные, иссохшие до костей, с голодными из-за отсутствия пищи глазами, более всего подверженные болезням, упражняющиеся в смерти. А те, кто печется о себе, славные, богатые, ведущие, хвалимые, чтимые, здоровые, дородные, сильные, утонченные, изнеженные, не знающие трудов, живущие среди удовольствий, несущих к всеприемлющей душе по всем чувствам приятные ощущения».
(35) После того как их речь завершит дальний бег наподобие этого, кажется, что они одержали победу над теми, кто не привык мудрствовать. Однако причиной победы является не сила победителей, а слабость в этих вещах их соперников. Ведь среди стремящихся к добродетели одни доверили сокровища прекрасного только душе: они упражняются в похвальных делах, и даже во сне не приснятся им хитросплетения слов; вторым же удалось и то, и другое: благоразумием и благородными поступками изрядно укрепить рассудок, а словесным искусством — речи. (36) Состязаться с кем-либо в искусстве спора подобает таким, как они, — располагающим средствами, чтобы с легкостью отразить противника. А первые совершенно беззащитны. И правда, какие люди сумеют без оружия оказать достойное сопротивление одетым в доспехи, при том что, и вооружись они, борьба будет неравная? (37) Что касается Авеля, то он не изучал искусство речей и знает прекрасное лишь благодаря рассудку. Поэтому ему следовало, отыскав предлог, не приходить на поле и пренебречь вызовом неприятеля. Ведь любая нерешительность лучше поражения. Эту нерешительность враги называют трусостью, а друзья — осторожностью. Не верить следует скорее друзьям, чем неприятелям, ибо они не лгут.
(38) Разве ты не видишь, что Моисей находит предлог, чтобы избежать находящихся в теле, Египте, софистов, которых он называет колдунами, потому что уловки и чары софизмов как бы околдовывают и губят благородные нравы? Он говорит, что он не «доброречив» (Исх.4:10), что значит не способен к витийству, творящему подобия добрых и убедительных речей. Затем ниже он утверждает, что не только не «доброречив», но и совсем «бессловесен» (Исх.6:12). Бессловесен же (но не в том смысле, в каком мы говорим так о неразумных животных) тот, кто не считает возможным пользоваться возникающим в голосовом органе словом, но в одном лишь рассудке начертывает и запечатлевает основоположения истинной мудрости, противоположной лживому мудрствованию. (39) Поэтому он пойдет в Египет и вступит в борьбу с его софистами не прежде, чем достигнет вершины, упражняясь во внешнем слове, после того как Бог явит и доведет до совершенства все виды изложения избранием брата Моисея Аарона, которого Он обыкновенно называет «устами» (Исх.4:16), «излагающим» и «пророком» (Исх.7:1). (40) И правда, все это присуще слову, брату рассудка. Ведь рассудок является источником слов, и слово для него — устье, потому что через него вытекают наружу, подобно льющимся из источника водам, все умозаключения; оно же излагает принятые в его совете решения; и, разумеется, оно пророчествует и возглашает оракулы, беспрестанно доносящиеся из его заповедных и незримых святилищ.
(41) Такой способ борьбы против умеющих оспаривать учения полезен, так как, поупражнявшись в видах речей, мы уже не будем валиться с ног из-за неискушенности в софистических приемах, но поднимемся, примем стойку и ловко освободимся от их умелых захватов. И как только они будут однажды разоблачены, окажется, что они обладают умением бойцов, сражающихся не с соперником, а со своей тенью. Ведь и последние славятся тем, что ловко действуют руками, сражаясь сами с собой, но, выйдя на состязание, навлекают на себя немалый позор. (42) Если тот, кто не изучал искусство речей, хотя и украсил душу всяческими добродетелями, не ответит на вызов, он обретет легкодостижимую награду безопасности, но если он, подобно Авелю, выйдет на софистическое соревнование, то будет брошен на землю раньше, чем примет стойку. (43) Среди врачей одни, хотя и умеют лечить чуть ли не любые страдания, болезни и недомогания, однако обо всем этом не могут сказать истинного или правдоподобного слова. Другие же, наоборот, будучи искусны в речах, очень хорошо излагают все, из чего складывается искусство — признаки, причины и способы лечения заболеваний, но крайне слабы в том, что касается ухода за больным телом, и не в состоянии предложить даже простейшее из лекарств. Подобным же образом упражняющиеся в мудрости посредством дел часто не заботятся о речах, а изучившие искусства с помощью речей не хранят в душе ни одного прекрасного образца. (44) Поэтому нет ничего удивительного в самонадеянной дерзости, свойственной их необузданному языку, ибо они обнаруживают бессовестность, которую воспитывали в себе с самого начала. А тем, как врачам, изучившим искусство исцеления болезней и язв души, необходимо ждать, пока Бог не создаст наилучшего истолкователя, напитав источники речи и явив их ему.
(45) Таким образом, Авелю подобало бы оставаться дома, следуя спасительной добродетели осмотрительности, и по примеру Ревекки-стойкости не принимать вызова на жаркую схватку спорщиков. Ведь, когда почитатель порока Исав угрожает убийством упражняющемуся в добродетели Иакову, она требует, чтобы тот, против кого направлен злой умысел, удалился и не возвращался до тех пор, пока другой не перестанет упорствовать в своей ярости (Быт.27:45). (46) И правда, Исав прибегает даже к какой-то неслыханной угрозе: «Да приблизятся дни плача отца моего, дабы я убил Иакова, брата моего» (Быт.27:41). Иными словами, он заявляет о своем желании, чтобы Исаак, единственный бесстрастный вид внутри становления, которому был оракул «не ходить в Египет» (Быт.26:2), испытал неразумную страсть, — чтобы, как я думаю, его ранило стрекало удовольствия, или печали, или какой-либо другой страсти. При этом он дает понять, что менее совершенный и в трудах продвигающийся вперед будет не просто ранен, но погибнет совсем. Однако милосердный Бог, разумеется, сделает недостижимым для страсти вид, принадлежащий к неуязвимому роду, и не даст обезумевшему и жаждущему крови погубить упражнение в добродетели. (47) Поэтому и следующие слова «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт.4:8) лишь на первый взгляд подразумевают, что уничтожен Авель, а при более тщательном рассмотрении — что сам Каин уничтожен самим собой. Тем самым следует читать: «Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил себя», — а не другого. (48) Естественно, что с ним это случилось, так как душа, уничтожив в себе учение, любящее добродетель и Бога, уже не живет добродетельной жизнью. Стало быть, Авель — и это удивительнее всего — и уничтожен, и жив; он уничтожен в рассудке безумца, но живет в Боге счастливой жизнью. Свидетельством будет изречение оракула, где он, совершенно очевидно, обладает «голосом» и «вопиет» о том, что он претерпел от подлого сородича. И правда, разве может разговаривать тот, кого уже нет?
(49) Итак, мудрый, кажущийся мертвым в тленной жизни, живет нетленной жизнью, глупец же, живя порочной жизнью, мертв в жизни счастливой. Дело в том, что, когда речь идет о разделенных телах, живых и прочих, легко допустить, что действующими являются одни, а претерпевающими — другие. Например, когда отец для вразумления бьет сына или учитель — ученика, один является бьющим, а другой побиваемым. А когда речь идет о единенных телах, обнаруживается, что действие относится к тому же телу, к которому относится и претерпевание, причем делается и претерпевается не разное и не в разное время, а одно и то же в одно и то же время. Так, когда борец натирает себя для упражнения, он непременно является натираемым. И, разумеется, всякий, кто ударяет или поражает себя, является ударяемым и поражаемым. И тот, кто увечит или убивает себя, является увечимым и убиваемым. (50) Так к чему я сказал это? К тому, что душа, относящаяся не к разделенному, а к единенному, неизбежным образом претерпевает то, что она, по ее собственному мнению, делает. Так, бесспорно, и в нынешнем случае: решив, что она уничтожила учение, более всего любящее Бога, она уничтожила себя. Об этом свидетельствует Ламех, потомок Каинова нечестия, который говорит своим женам, двум безрассудным мнениям: «Я убил мужа в язву мне и юношу в рану мне» (Быт.4:23). (51) Ведь, очевидно, что всякий, убивающий слово мужества, поражает себя противоположным ему недугом трусости, и что всякий, уничтожающий расцветшую благодаря упражнению в прекрасном силу, наносит себе раны и великие увечья, сопряженные с немалым позором. Не случайно и стойкость-Ревекка говорит, что, если будет уничтожено упражнение и продвижение, она потеряет не только одного потомка, но и остальных, оказавшись совершенно «бездетной» (Быт.27:45).
(52) Как причиняющий вред доброму очевидным образом наказывает себя, так и предоставляющий преимущества лучшим совершает благо как будто для них, а на деле приобретает его для себя. В пользу моего рассуждения свидетельствует природа и сообразные ей законоположения, в которых открыто и ясно предписано следующее: «Чти отца и мать, чтобы тебе было хорошо» (Исх.20:12). «Тебе», гласит закон, а не «тем, кого чтят». Ведь, если мы будем почитать ум, так как он отец нашей смешанной природы, и способность ощущения, так как она ее мать, благо от них будет нам самим. (53) Почесть уму — служить ему тем, что полезно, а не тем, что приятно, — полезно же все, берущее начало от добродетели. Почесть способности ощущения — не отпускать ее нестись в общем потоке к внешнему чувственно воспринимаемому, но держать ее в узде при помощи ума, опытного кормчего и возничего для неразумных сил внутри нас. (54) Итак, если каждый из двух — и способность ощущения, и ум, получит названную мной почесть, то я, их обладатель, неизбежно буду принимать благодеяния от обоих.
С другой стороны, если ты, уведя рассуждение в сторону от ума и способности ощущения, воздашь честь отцу, родившему космос, и матери — мудрости, давшей целому завершенность, ты сам будешь вознагражден. В самом деле, ни Бог в Его полноте, ни знание, достигшее вершины совершенства, не нуждаются в чем бы то ни было. Поэтому заботящийся о них служит не тем, на кого обращена его забота, ибо они лишены потребностей, но более всего — самому себе. (55) Так, например, всадническое искусство и искусство выращивания собак, являясь умением заботиться о лошадях и собаках, дает животным то полезное, в чем они нуждаются. Не делая этого, оно, пожалуй, не отвечало бы своему назначению. Однако относительно благочестия, хотя оно представляет собой заботу о Боге, недопустимо утверждать, что оно служит на пользу божеству. Ему ничто не служит на пользу, так как, во-первых, у него нет потребностей, и, во-вторых, не может вещь приносить благо Тому, что во всех отношениях ее превосходит, — напротив, божество постоянно и непрерывно помогает всем. (56) Поэтому, когда мы говорим, что благочестие является заботой о Боге, мы имеем в виду что-то вроде службы рабов, умеющих незамедлительно выполнить повеление хозяев. Но и здесь будет то различие, что хозяева нуждаются в услужении, а Бог — нет. Первым оказывают услуги, которые принесут им пользу, а служащие второму не предложат ничего, кроме образа мыслей, исполненного любви к хозяину. Ведь они не обнаружат ничего, что они могли бы усовершенствовать, так как все дела хозяина изначально устроены наилучшим образом, однако себе они принесут великие блага, стараясь обратить на себя внимание Бога.
(57) Теперь, думаю, достаточно сказано относительно тех, которые думают, что добро или зло они делают другим: ведь обнаружилось, что и то, и другое они делают самим себе. Давайте рассмотрим дальнейшее. Это вопрос: «Где Авель, брат твой», — на который он отвечает: «Не знаю, разве я сторож брату моему» (Быт.4:9). В таком случае стоит выяснить, возможно ли, строго говоря, чтобы Бог о чем-либо осведомлялся. Ведь спрашивающий или осведомляющийся спрашивает и осведомляется о том, чего он не знает, в поисках ответа, из которого будет знать прежде неизвестное. Однако Богу известно все — не только настоящее и прошлое, но и будущее. (58) И какой прок от ответа, который ничего не прибавит к постижению осведомлявшегося. Следовательно, мы должны признать, что эти слова не могут употребляться в собственном смысле по отношению к Причине. Однако, как можно утверждать ложное, не будучи лгуном, точно так же можно задавать вопрос или осведомляться, не будучи вопрошающим или осведомляющимся.
Тогда для чего, скажет, наверное, кто-нибудь, произносятся эти слова? Для того чтобы душа, которой предстоит дать ответ, одна, в отсутствие как обвинителя, так и защитника, сама себя изобличила в добрых или злых решениях. (59) Ведь и когда Он спрашивает мудреца: «Где твоя добродетель?» (Быт.18:9), — я имею в виду Авраама, которого спрашивают о Сарре, Он задает вопрос не по незнанию: ведь Он считает, что Авраам должен ответить, с тем чтобы похвальное слово исходило от него самого. В самом деле, Моисей говорит, что он ответил: «Здесь, в шатре» (Быт.18:9), — то есть в душе. Что же в этом ответе достойно похвалы? Он говорит: «Здесь у себя я храню добродетель как некое сокровище, и именно поэтому я счастлив. (60) Ибо быть счастливым — это пользоваться и наслаждаться добродетелью, а не просто-напросто обладать ею. Но я бы не мог ею воспользоваться, если бы ты не дал ей стать беременной, ниспослав с неба семя, и она не произвела бы на свет Исаака — порождение счастья. Счастье же я понимаю как умение пользоваться совершенной добродетелью в совершенной жизни». Поэтому, обрадовавшись мыслям Авраама, Он и соглашается в надлежащее время исполнить его желание.
(61) Аврааму, признавшему, что даже добродетель не может быть полезной одна, без божественного попечения, ответ принес хвалу; Каину же, сказавшему, что не знает, где тот, кого он коварно убил, — поругание. Ведь он решил обмануть Внимающего, будто Тот не проникает взглядом в любую вещь и не распознал наперед обман, к которому Каин собирается прибегнуть. Однако всякий, кто думает, что Божье око не замечает чего-либо, — преступник и изгой. (62) Он же еще заявляет с мальчишеской дерзостью: «Разве я сторож брату моему?» (Быт.4:9). Я, пожалуй, отвечу: совсем несчастную жизнь предстояло бы ему прожить, если бы хранителем и стражем столь великого блага природа поставила тебя.
Или ты не видишь, что блюсти и сторожить святыни Законодатель поручил не кому-нибудь, а левитам, более всех преданным мыслями Богу? Не только земля, вода и воздух, но даже небо и все мироздание были сочтены недостойным их жребием. И только один удостоился их трудов — Демиург, у которого они нашли прибежище, как истинно молящие о покровительстве и почитающие Его: ибо любовь к Владыке они доказывают постоянным служением и самой неустанной стражей вверенных им вещей.
(63) Причем отнюдь не всем молящим о покровительстве было дозволено стать на страже святынь, но лишь тем, кому выпало пятидесятое число, возвещающее окончательное вызволение и освобождение, а также возвращение исконных владений. Ибо говорит Он: «Вот закон о левитах. От двадцати пяти лет пусть он приступит к работе в скинии свидетельства; и от пятидесяти лет пусть он отойдет от службы и не будет больше работать, а служит пусть его брат. Он же пусть будет стражем, и пусть не работает» (ср. Чис.8:24‑26). (64) Поскольку пятидесятый разум является совершенным, а разум двадцати пяти [лет] — его половина, не предписывает ли Он являющемуся половиной совершенства работать и священнодействовать, доказывая усердие поступками (ведь, как сказал кто-то из древних, начало — половина целого), совершенному же — оставить труды и стать на страже всего того, что он приобрел заботой и трудом. И правда, не хотел бы я упражняться в тех вещах, стражем которых я не стану впоследствии.
(65) Итак, упражнение — нечто среднее, не совершенное, потому что оно возникает в душах, хоть и устремленных к вершине, но несовершенных. А сторожевая служба — полное совершенство, передача памяти увиденных благодаря упражнению святынь, прекрасного вклада знания — верной стражнице, единственной, презирающей многохитростные сети забвения. Поэтому помнящего выученное Он верно и метко называет стражем. (66) Прежде, когда страж приобретал навыки, он был учеником, и другой его обучал. Но как только он стал способен к сторожевой службе, он получил полномочия и чин учителя, назначив в помощь учительству брата, — свое внешнее слово. Не случайно ведь говорится: «Служит пусть его брат» (Чис.8:26). Таким образом, ум добродетельного человека будет стражем и хранителем решений добродетели, брат же ума, слово, будет служить ищущим образования, излагая решения и основоположения мудрости. (67) Поэтому и Моисей в восхвалениях Левию после многих удивительных слов прибавляет: «Он сберег слова Твои и соблюл завет Твой». И далее: «Они явят Твои справедливые приговоры Иакову и Твой закон — Израилю» (Втор.33:9‑10). (68) Законодатель явственно показывает, что добродетельный человек является стражем слов и завета Бога. Кроме того, он объявляет его также лучшим истолкователем и изъяснителем справедливых приговоров и законов: истолкование происходит с помощью родственного, то есть голосового, органа, а сторожевая служба, как обнаруживается, связана с умом, который был создан природой как большое хранилище, с легкостью вместившее представления о всех телах и вещах. И себялюбцу Каину стоило бы стать стражем Авеля. Ведь, если бы он сохранил его, он устремился бы к смешанному и среднему образу жизни и не наполнился бы беспримесным и неразбавленным пороком.
(69) «И сказал Бог: “Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли”» (Быт.4:10). Слова «что ты сделал» выражают и возмущение скверным поступком, и насмешку над тем, кто мнит, что исполнил коварное убийство. Причиной возмущения является замысел преступника, ибо он решил уничтожить прекрасное, а насмешка вызвана его мнением, будто зло угрожает лучшему, хотя оно угрожает скорее не ему, а самому Каину, (70) И правда, как я говорил прежде, кажущийся умершим живет, если уж обнаруживается, что он молит Бога и обладает голосом; а считающийся уцелевшим мертв смертью души, ибо он отгородился от добродетели, согласно которой только и стоит жить. Таким образом, слова «что ты сделал?» равнозначны словам «ничего ты не сделал, ничего не добился».
(71) Софист Валаам, безрассудная толпа противоборствующих мнений, также оказался не в силах предать проклятию добродетельного и причинить ему вред, потому что Бог обратил проклятия в благословение, чтобы уличить в злодействе преступника и явить свою любовь к добродетели (Чис.23:8).
(72) Ведь софисты рождены, чтобы сталкивать находящиеся в их распоряжении силы: речи противоборствуют и ни в чем никоим образом не согласуются с мыслями, а желания — с речами. Они терзают наши уши, объясняя и доказывая, что справедливость — общественное, воздержанность — выгодное, самообладание — подобающее, благочестие — полезнейшее, любая другая добродетель — целительнейшее и спасительное; и наоборот, несправедливость — недопустимое, распущенность — больное, нечестие — беззаконное, любой другой порок — вреднейшее. (73) При этом, однако, они не перестают думать противоположное тому, что говорят, так что, когда они воспевают разумность, воздержанность, справедливость и благочестие, тогда особенно выясняется, что они неразумны, распущенны, несправедливы и нечестивы. Ведь они смешивают и уничтожают чуть ли не все человеческое и божественное. (74) К ним по справедливости можно обратиться со словами, сказанными оракулом Каину: что вы сделали? Что доброго вы для себя совершили? Какую пользу вашей душе принесли столь многочисленные речи о добродетели? Какую часть, большую или малую, вашей жизни вы исправили? Так как же? Или, напротив, вы собрали истинные свидетельства, обвиняющие вас самих? Ведь вы, будучи наилучшими истолкователями, рассуждаете о прекрасном и на словах философствуете, но думаете о безобразнейшем и стремитесь к нему. К тому же разве прекрасное не умерло в ваших душах, когда в них загорелся порок? Поэтому никто из вас не остался в живых.
(75) Со смертью музыканта или грамматика музыка и грамматика, находившаяся внутри них, гибнет, но идеи этих вещей остаются и в известном смысле живут, пока существует мироздание, так что в согласии с ними нынешние и будущие люди, вечно сменяя друг друга, будут становиться музыкантами и грамматиками. Точно так же, если разумное, воздержанное, мужественное или справедливое, или, говоря одним словом, мудрое, уничтожается внутри человека, то разумность, вырезанная на стелах бессмертной природы целого, отнюдь не становится менее бессмертной и вся добродетель — менее нетленной, и в согласии с ней и сейчас существуют и в будущем будут существовать добродетельные люди. (76) Ведь мы не станем утверждать, что смерть какого-то отдельного человека губит человечество, назовут ли его исследователи собственных имен родом, идеей, общим понятием или чем бы то ни было. Одна печать, многократно оставлявшая оттиски на тысячах бесчисленных сущностей, остается, как была, ничуть не поврежденная в своей природе, несмотря на то что все оттиски вместе с сущностями когда-то исчезают. (77) И после этого мы отрицаем, что природа добродетелей навсегда останется невредимой и нетленной, пусть даже из-за нездорового образа жизни или по какой другой причине исчезнут все оттиски, оставленные ими в душах воспринявших их людей?
Одним словом, непосвященные в таинства образования все всегда спутывают и смешивают, ибо не знают ни о различиях между целым и частями, ни о различиях между родами и видами, ни о совпадении их имен. (78) Поэтому всякий себялюбец, называемый Каин, должен знать, что он уничтожил нечто, соименное Авелю, — вид, часть, отображенный отпечаток, не первообраз, не род, не идею. А он думает, что их, неистребимых, он истребил вместе с живыми существами. Пусть ему теперь скажут с презрением и насмешкой: что ты сделал, несчастный? Разве не продолжает жить у Бога боголюбивое учение, которое, как тебе кажется, ты уничтожил? Разве не себя самого ты убил, коварно уничтожив того единственного человека, благодаря которому ты имел возможность жить безупречно?
(79) Слова, сказанные затем, — «голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт.4:10) — очень выразительны и красотой стиля, и нахождением мыслей. Что касается возвышенного слога, то с ним знаком всякий, кто не профан в речах. Поэтому давайте, насколько будем в силах, рассмотрим выражаемые мысли, причем сперва — то, что касается крови.
(80) Много раз в законодательстве Моисей объявляет кровь сущностью души, говоря прямо: «Душа всякой плоти — кровь» (Лев.17:11 и др.). Однако, когда после возникновения неба, земли и того, что между ними, Литейщик живых существ создавал человека, Он «вдунул в лицо его дух жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7), — говорит Законодатель, и тем самым он уже доказывает, что сущность души — дух. (81) Причем Моисею, разумеется, в высшей степени свойственно помнить о первоначальных утверждениях. Ведь его правило — к сказанному раньше прибавлять то, что ему соответствует и с ним согласуется. Поэтому, объявив сущностью души дух, он не стал бы затем говорить, что сущность души — кровь, отличающееся от других тело, если бы он не ссылался на что-то совершенно необходимое и основополагающее. (82) Так чем же мы должны ее считать? Согласно точным разделениям, в числовом выражении каждый из нас является двумя — животным и человеком. И тому и другому дана в удел родственная сила души: первому — животная, следуя которой мы живем, а второму — разумная, следуя которой мы являемся разумными. К животной силе причастны и неразумные существа, к разумной же — не просто «причастен», а «начальствует» над ней Бог, источник самого старшего разума.
(83) Силе, общей с неразумными, в качестве сущности выпала кровь, а той, что проистекает из разумного источника, — дух, не находящийся в движении воздух, а некий оттиск и отпечаток божественной силы. Именно его Моисей называет его собственным именем — «образом», показывая, что первоначало разумной природы — Бог, а подобие и отображение — человек, не состоящее из двух природ животное, а тот наилучший вид души, который называется умом и рассудком.
(84) Поэтому он говорит, что душа плоти — кровь, сознавая, что плотская природа хотя и не получила ума, но причастна жизни, как и все наше тело. А душу человека он именует духом, потому что, как я сказал, человеком Моисей называет не смешанную природу, а то богоподобное произведение, при помощи которого мы рассуждаем. Его корни Бог протянул до неба и соединил их с последней сферой звезд, называемых неподвижными. (85) Ведь единственным небесным растением на земле Он сделал человека: головы прочих Он укрепил в тверди (все они обращены головой вниз), а человеческую возвел ввысь, чтобы тот имел пищу олимпийскую и нетленную, а не землеподобную и подверженную тлену. Из-за этого Он и укоренил ступни в земле, поставив все самое нечувствительное в нашем теле на наибольшее расстояние от рассуждающей части, охраняющие же ум чувства и сам ум Он отселил как можно дальше от земной области и привязал к нетленным кругам воздуха и неба.
(86) Итак, мы, ученики Моисея, пожалуй, перестали недоумевать, как человек приобрел понятие о невидимом Боге. Ведь он изложил нам причину этого, после того как сам узнал ее из прорицания. А говорил он следующим образом. Ни одну Душу, предназначенную для тела, Творящий не наделил способностью своими силами видеть Творца. Однако, рассудив, что созданию будет очень полезно приобрести понятие о Создателе (ведь так определяется счастье и блаженство), Он свыше вдыхает в него Свою божественность. И она незримой печатью оставляет в незримой душе свои оттиски, чтобы и земная область не была лишена Божьего образа. (87) Но первая печать была настолько невидимой, что и отображение ее незримо — однако, уподобившись образцу, оно вбирает в себя уже не смертные, а бессмертные понятия. Иначе как могла бы смертная природа одновременно быть на месте и отсутствовать, наблюдать здешнее и находящееся в другом месте, проплывать все моря и доходить до края земли, вникать в законы и обычаи или, говоря одним словом, в вещи и тела; или же помимо земного постигать вышнее: воздух с его переменами и особенностями состояний, а также все, что свершается в разные времена года, как новое, так и привычное; (88) или же по воздуху воспарять от земли к небу и исследовать небесные природы: каково их положение, как они двигаются, каковы условия начала и конца их движения, каким образом они, следуя некоему правилу родства, находятся в гармонии друг с другом и с целым; а также изобретать все те искусства и науки, что создают внешние блага и заботятся о благах тела и души, чтобы и то и другое было совершеннее, и о множестве других ве щей, число и природу которых нелегко охватить словом? (89) В самом деле, только одно из того, что у нас есть, — будучи самым стремительным, упреждает и обгоняет даже вре мя, в котором он, казалось бы, возникает, ибо благодаря невидимым способностям независимо от времени он постигав целое, части и их причины.
Ум, дойдя до пределов не только земли и моря, но также воздуха и неба, даже здесь не остановился, ибо счел космос крат ким отрезком своего постоянного и непрерывного бега и ш желал продвинуться вперед и по возможности постичь непостижимую — за исключением одного бытия — природу Бога, (90) Как могло бы быть правдоподобным, чтобы столь малая величина — человеческий ум, заключенный внутри малых объемо! мозговой оболочки или сердца, вмещал столь великие небо ; мироздание, не будь он неотделимым побегом той божественной и счастливой души? И правда, ничто божественное не отрывается, а только растягивается. Поэтому наделенный совершенством целого ум, когда предметом его мысли оказывается космос, расширяется вместе с ним до границ целого, не подвергаясь разрыванию: ему свойственна тягучесть.
(91) Пусть этим завершится, чтобы быть кратким, рассуждение о сущности души. А следующие слова — «голос крови вопиет» (Быт. 4:10) — мы будем толковать так. Одна часть нашей души безгласна, другая же наделена голосом. Неразумная часть — безгласна, а голосом наделена та, что разумна. Только она обладает понятием о Боге, — ведь ни Бога, ни что-либо умопостигаемое мы не в силах воспринимать с помощью остальных частей. (92) Следовательно, некая доля той животной силы, сущностной частью которой является кровь, получила в качестве исключительной привилегии голос и речь, — не поток, проходящий через уста и язык, но источник, откуда емкости внешней речи должны наполняться. Этот источник — ум, посредством которого мы то вольно, а то и невольно обращаемся и взываем к Сущему, (93) А так как Он добр и милостив, Он не отворачивается от просителей, в особенности когда те, стеная от египетских трудов и страстей, взывают без лжи и притворства. Ведь, как говорит Моисей (Исх.2:23), тогда их слова «взошли к Богу», и Он, «вняв», защитил их от подступивших бед.
(94) Но самое невероятное, что все эти события начинают происходить после смерти египетского царя. Было бы естественно, если бы смерть тирана вызвала радость и веселье порабощенных. Сказано, однако, что они тогда стали стенать: «Спустя долгое время, умер царь египетский и стенали сыны Израилевы» (Исх.2:23). (95) Понимаемое буквально, предложение не обладает правдоподобием, однако сказанные слова обретают смысл, если отнести их к способностям души. В самом деле, когда рассеивающий и отвергающий мысли о прекрасном Фараон возникает внутри нас и, как кажется, здравствует (если, конечно, следует говорить, что какой-либо негодяй здравствует), мы оказываем прием наслаждению и изгоняем из наших пределов самообладание. Когда же виновник мерзкой и разнузданной жизни потеряет силу и как бы умрет, мы, ясно увидевшие жизнь воздержанную, плачем и сокрушаемся из-за своего прежнего поведения, — ведь мы соединили смертную жизнь с бессмертной, ценя наслаждение выше добродетели. Но Тот единственно милостивый, испытав сострадание к нашим постоянным рыданиям, принимает просящие защиты души и легко отражает грозящую нам из Египта бурю страстей.
(96) А нераскаивающегося Каина Он ввиду ни с чем не сравнимой скверны предает проклятию, которое наиболее подобает братоубийце. Сначала Он говорит ему: «И ныне проклят ты от земли» (Быт.4:11), — давая понять, что ныне, после коварного убийства, не впервые он осквернен и проклят, но был таковым и раньше — когда решился на убийство, ибо замысел равносилен свершению. (97) Дело в том, что, пока мысль о безобразном является голым впечатлением ума, мы не ответственны за действия рассудка, так как наша душа может терпеть превращения и непроизвольно. Но когда к решению прибавляется действие, то повинным становится и решение, ибо в этом случае особенно хорошо видна добровольность преступления. (98) По Его словам, проклятие ума будет не от чего-нибудь, а от земли. Ведь причиной его самых тяжелых несчастий является облекающее каждого из нас землеподобное. Ведь именно тело то наполняет ум муками и терзаниями, когда, страдая от болезни, передает ему свои язвы, то притупляет его способности к постижению, когда тучнеет сверх меры от пс лучаемых удовольствий, (99) И уж, конечно, вред для ума мс жет находиться в каждом из чувств: то его, увидевшего красе ту, ранят стрелы Эрота, ужасной страсти, то он гнется от скорби, услышав о смерти родственника; часто ему наносит удары ощущение вкуса, причиняя расстройство неприятными соками или отягощая обилием приятных. Нужно ли вспоминать еще об оводах вожделения? Это они были причиной гибели целых городов, земель и обширных стран, о чем свидетельствует чуть ли не все множество поэтов и писателей.
(100) Затем Он указывает на то, каким образом ум получает «проклятие от земли», говоря: «... которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего» (Быт.4:11). И правда, тяжко, когда отверстия органов чувств раскрыты настолько широко, что подобный переполненной реке поток чувственно воспринимаемого вливается в их отверстия без всякого противодействия этому сильному напору. Именно тогда ум, захлебнувшись в такой буре, тонет, не имея сил подняться вверх и вынырнуть, (101) Поэтому каждое из чувств следует использовать не для всего того, что оно может, а, скорее, для наилучшего. Зрение может видеть любые цвета и формы, но оно должно видеть то, что достойно света, а не тьмы; ухо также может воспринимать любые звуки, однако к некоторым оно не должно прислушиваться — ведь неисчислимое множество из произносимого безобразно. Природа наделила тебя ощущением вкуса. Так не пожирай же, глупец, все подряд с ненасытностью нырка — многое из того, что избыточно, а не просто питательно, порождает болезни, сопровождающиеся тяжелыми мучениями. (102) Ради продолжения существования целого тебе даны детородные органы. Так стремись не к разврату, прелюбодеянию и прочим нечистым связям, а к тем, которые в согласии с законом сеют и насаждают человеческий род. Тебе достался язык, рот и голосовые органы. Не болтай же что попало, в том числе и недозволенное. Ведь кое-где уместно молчание, и научившиеся говорить, как мне кажется, выучились и молчать, так как и то, и другое достигается одной и той же способностью. А те, кто произносят неподобающее, являют не силу в речах, а бессилие в молчании.
(103) Поэтому будем стараться каждое из названных отверстий связать нервущимися связями самообладания. Не случайно Моисей говорит в другом месте (Чис.19:15): «Те, которые обвязанием не обвязаны, нечисты», — полагая, видимо, что расслабление, зияние и развязанность частей души — причина несчастья, а связанность и собранность делают прямыми и жизнь, и разум. Итак, заслуженно Он проклинает безбожного и нечестивого Каина, ибо тот раскрыл глубокие емкости своей смешанной природы и устремился навстречу всему внешнему, желая из-за ненасытности «принять» и вместить его на погибель Авелю — учению, любящему Бога.
(104) Поэтому Каин будет «обрабатывать», а не «возделывать» землю (Быт. 4:12). Дело в том, что всякий земледелец — знаток искусства (ибо земледелие — тоже искусство), в то время как многие незнающие люди — это труженики земли: они выполняют ради добывания необходимого подсобную работу, которая не требует умения. Такие как они приносят своими действиями много вреда, если над ними нет начальника. Даже в том случае, когда им что-то удается, они действуют верно по случайности, не по расчету. А все то, что в согласии с наукой делают земледельцы, по необходимости является полезным. (105) По этой причине Законодатель приписал земледельческое искусство праведному Ною (Быт.9:20), уча нас следующему. Добродетельный человек, подобно хорошему земледельцу, среди диких деревьев выкорчевывает все вредоносные побеги, посаженные страстями или пороками, но оставляет все те, которые, пусть даже не плодоносят, но могут, словно оборонительная стена, служить прочнейшей защитой души; в свою очередь, за каждым садовым деревом он ухаживает не одинаковыми, но разными способами: от одних отнимает, к другим прибавляет, одним дает расти ввысь, другие коротко обрезает, (106) Далее, увидев, что виноградная лоза разрослась, он отводит в землю ее ветки, выкапывая ямки и снова их засыпая. Недолго, и ветки превращаются из частей в целое, из дочерей в матерей, избавляя при этом родную мать от старения. Ведь она перестает делить на мелкие части свою пишу для многочисленного потомства, по вине которого она слабела от голода. Они уже способны добывать пищу своими силами, и мать постепенно начинает насыщаться, чтобы налиться соком и зацвести вновь.
(107) Видел я также, как земледелец срубает выросший из земли среди садовых деревьев неблагородный побег, давая ему подняться лишь немного выше самых корней. Затем, взяв от благородного дерева крепкий росток, земледелец с одного конца очищает его до сердцевины и, разрезав тот, который был оставлен на высоте корней, — не глубоко, а так, чтобы только разомкнуть единое тело, — берет очищенный росток и закрепляет его в разъеме. (108) Из них обоих возникает общая единенная природа дерева, при этом каждая часть совершает полезный обмен с другой: корни питают прикрепленный росток и не дают ему увянуть, а он в благодарность за питание дарит им плодородие. Существуют и тысячи других приемов земледельческого искусства, но в настоящее время вспоминать о них излишне. Ведь это отступление мы сделали только ради того, чтобы показать различие между человеком, работающим на земле, и земледельцем.
(109) Дурной человек не прекращает неискусную обработку землеподобного тела, родственных телу чувств и всего внешнего чувственно воспринимаемого. При этом он причиняет вред своей несчастнейшей душе, а также тому, что якобы получает от него наибольшую пользу, — собственному телу. А человек добродетельный подходит ко всей материи искусно и с помощью разума: ведь он опытен в земледельческом искусстве, (110) Так, когда чувства в неудержимом потоке дерзко несутся навстречу внешнему чувственно воспринимаемому, их с легкостью смиряет какое-либо из средств, изобретенных искусством. И когда пульсирующая в душе страсть свирепеет, вызывая зуд и возбуждение от наслаждения и вожделения или же угрызения и тревоги от страха и скорби, ее укрощает приготовленное заранее спасительное лекарство. И, разумеется, если какой-нибудь порок, родственный лишайной болезни тела, распространяется все дальше и дальше, его срезают искусным резцом разума. (111) Дикая растительность одомашнивается именно таким образом. У всякого же благородного и плодоносящего древа добродетели ветвями являются занятия, а плодами — прекрасные дела. Земледельческое искусство души взращивает каждое из деревьев и, насколько может, своими стараниями делает его бессмертным.
(112) Итак, добродетельный человек с очевидностью предстал земледельцем, а порочный — тружеником земли. Если бы еще при этом облекающее его землеподобное прибавляло ему силы за труды на земле, а не уменьшало и ту мощь, которая есть! Не случайно же сказано, что она «не приложит силы своей дать тебе» (Быт.4:12). (113) Нечто подобное происходит, пожалуй, с человеком, если он все время ест и пьет, но никогда не насыщается, или если он непрерывно услаждает следующие за животом части тела, и продолжает испытывать сильнейшее стремление к любовным соитиям. В самом деле, слабость вызывается недостатком, а сила — насыщением; а ненасытность — это чудовищная несдержанность и голод при изобилии пищи. Несчастны те, чьи внутренности наполнены, а вожделения не удовлетворены и все еще жаждут! (114) О тех же, кто любит знание, Моисей говорит в великой песни, что Он «вознес» их «над силою земли» и «кормил» их «урожаем полей» (Втор.32:13). Он показывает, что безбожный человек не достигает цели и испытывает еще большие муки из-за того, что его действия не прибавляют, а, напротив, уменьшают силы. А ищущие добродетель, поднявшись над всем землеподобным и смертным, не считаются ни в малейшей степени с его властью. Ведь путеводителем их восхождения является Бог, который и подает им «урожай полей», чтобы они вкушали его и извлекали из этого наибольшую пользу. Моисей уподобляет добродетели полям, а плоды добродетелей — урожаю, ибо они рождены: ведь из разумности рождается свойство быть разумным, из воздержанности — быть воздержанным, из благочестия — быть благочестивым, а из каждой прочей добродетели — соответствующее ей действие.
(115) Они и есть настоящая пища для души, способной сосать «мед из скалы и елей из твердой скалы» (Втор.32:13), как говорит Законодатель, изображающий в виде твердой и нерушимой скалы Божью мудрость, наставницу, кормилицу и воспитательницу тех, что стремятся к нетленному питанию. (116) Ведь эта мудрость, став как бы матерью для находящихся внутри мироздания, немедленно сама начинает питать рожденных ею. Однако не все удостаиваются божественной пищи а только те из потомков, которые достойны родителей. Немало и тех, которые погибают, не получив добродетели, ибо этот голод страшнее, чем отсутствие еды и питья. (117) А ключевая вода божественной мудрости то бежит спокойной и медленной струей, то набирает скорость и усиливает стремительность течения. Когда она течет спокойно, у нее вкус сладкий как у меда, увеличивая же скорость, она превращается в плотную массу, как бы елей для горения души, (118) В другом месте Моисей, пользуясь синонимом, называет эту скалу «манна», или самый старший среди сущего божественный разум, имя которому надродовое нечто. Из манны две лепешки: одна медовая, другая елейная, то есть две части воспитания, совершенно нераздельные и достойные рвения. Поначалу они дают почувствовать сладость созерцаемого с помощью знания, а затем они излучают ярчайший свет для тех, чья любовь не переменчива и кто с твердостью и постоянством крепко привержен ей навсегда. Как я говорил, такие люди «возносятся над силою земли» (Втор.32:13).
(119) А безбожному Каину земля ничуть не прибавляет крепости, хотя все его заботы касаются земли. Из-за этого он и оказывается впоследствии «стонущим и дрожащим на земле» (Быт.4:12), то есть испытывающим скорбь и страх. Такова жалкая жизнь несчастного, получившего в удел те из четырех страстей, которые более мучительны — страх и скорбь, одну, соименную стону, другую — дрожи. Дело в том, что такому человеку неизбежно или сопутствует, или будет сопутствовать какая-либо беда. В этом случае ее ожидание рождает страх, а ее присутствие — скорбь. (120) А тот, кто стремится к добродетели, обнаруживает соответствующие благострастия, так как он или уже приобрел благо, или приобретет его. Обладание вызывает радость, прекраснейшее достояние, а ожидание обладания — надежду, пищу добродетельных душ, благодаря которой, отбросив нерешительность, мы с полной готовностью идем навстречу прекрасным делам.
(121) Все скорбное изгнано из той души, в которой справедливость произвела на свет мужское потомство — справедливый образ мысли. Свидетельством тому рождение Ноя (это имя переводится «справедливый»), о котором сказано: «Сей упокоит нас от дел наших, и от скорбей рук наших, и от земли, которую проклял Господь Бог» (Быт.5:29). (122) Ведь свойство справедливости — во-первых, сменять тяжелый труд отдыхом ввиду ее полного безразличия к тому, что находится между порочностью и добродетелью и о чем хлопочет большая часть человеческого рода: к богатству, славе, должностям, почестям, а также ко всему, что им родственно; во-вторых, устранять скорби, возникающие вследствие собственных наших действий, — ибо Моисей в отличие от некоторых нечестивых говорит, что не Бог повинен в бедах, а наши руки, символ наших действий и добровольного обращения разума к худшему; и наконец, давать отдых «от земли, которую проклял Господь Бог».
(123) Имеется в виду обосновавшийся в душах безрассудных людей порок, от которого справедливый человек избавляется с помощью справедливости, словно от тяжелого недуга с помощью панацеи.
Отразив от себя порок, он наполняется радостью, как Сарра, которая говорит: «Смех мне сотворил Господь», — и прибавляет: «Кто ни услышит, обрадуется со мною» (Быт.21:6).
(124) Ведь Бог является создателем благородного смеха и радости, поэтому нам следует считать Исаака не произведением становления, а творением Невозникшего: если Исаак значит «смех» и если творец смеха — Бог, по правдивому свидетельству Сарры, то Его с полным правом можно назвать и отцом Исаака. Бог же делится своим званием с мудрецом Авраамом, которому Он, искоренив скорбь, даровал радость, порождение мудрости. Всякий, кто умеет слушать творения Бога, неизбежно ликует сам и «радуется вместе» с теми, кто еще раньше услышал их. (125) В творениях Бога ты найдешь не сказочный вымысел, а безупречные мерила истины, целиком сохраненные на стелах; не размеры, ритмы и мелодии голоса, увлекающие слух с помощью музыкального искусства, а самые совершенные произведения самой природы, наделенные собственной гармонией. И подобно тому, как радуется ум, слушая произведения Бога, неизбежным образом ликует и речь, вторящая и как бы внемлющая мыслям рассудка.
(126) Доказательством этому будет служить данный всемудрому Моисею оракул, в котором содержатся следующие слова: «Вот не Аарон ли левит, брат твой? Я знаю, что он станет говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в себе» (Исх.4:14). Как утверждает Творец, Ему известно, что «говорит» именно внешнее слово, являющееся братом рассудка. Ведь Он снабдил его членораздельным звучанием, сделав его как бы музыкальным инструментом всей нашей смешанной природы. (127) Это слово звучит, «говорит» и излагает мысли у нас с тобой и у всех людей, и оно, действительно, «выходит», чтобы встретить принятые рассудком решения: когда ум, пробудившись, устремляется к чему-то родственному — или от собственного внутреннего движения, или при восприятии различных отпечатков внешнего, — он зачинает и в муках пытается родить мысли. Он хочет, но не может разродиться, пока звучание языка и прочих голосовых органов, приняв роды, словно повивальная бабка, не даст мыслям появиться на свет. (128) И это звучание — яснейший голос мыслей. Ведь лежащее в темноте скрыто до тех пор, пока вспыхнувший свет не обнаружит его. Точно так же мысли хранятся в недоступном для зрения месте — рассудке, пока голос, засиявший словно свет, не откроет каждую из них.
(129) Итак, прекрасно сказано, что слово «выходит встретить» мысли, оно даже выбегает, спеша ухватить их, так как горит желанием рассказывать. И правда, для каждого присущее ему дело — самое желанное, слову же присуще говорить, и оно стремится к этому в силу некоего природного влечения. Оно ликует и радуется, когда, будто прозрев, оно видит и в совершенстве постигает смысл явленной ему вещи, — именно тогда, крепко схватив его, слово становится наилучшим истолкователем. (130) Не случайно мы отвергаем ораторов, в словесных лабиринтах не вполне совладавших с мыслями, ибо считаем их безудержными болтунами, плетущими речи пустые, долгие и к тому же — скажем главное — лишенные души. Слово таких людей, пожалуй, по праву застонет от недостойного обращения. И наоборот, слово с неизбежностью радуется, когда, обозрев умозаключения, оно умело приступает к изложению увиденного и закрепленного в постижении. (131) Это знакомо почти каждому из повседневного опыта. Когда мы в совершенстве знаем то, о чем говорим, слово радуется и ликует от изобилия самых точных и нужных выражений. Свободно располагая ими, оно изображает свой предмет легко и без запинки, к тому же живо и доходчиво. А когда постижение мысли смутно, слово из-за крайнего недостатка подходящих и метких выражений сбивается и говорит невпопад. Поэтому оно и само чувствует неприятную тошноту от кружения и блуждания и ушам слушателей причиняет страдание, не умея их убедить.
(132) Далее, с мыслями должно встречаться не любое слово, а только совершенный Аарон, причем не с любыми мыслями, а только с мыслями совершеннейшего Моисея. Иначе чего ради Он прибавляет «левит» к словам «Аарон, брат твой», если не для того, чтобы показать, что только левиту, священнику и добродетельному слову, подобает излагать умозаключения, произрастающие из совершенной души? (133) Ведь слову дурного человека никогда не стать истолкователем божественных учений, потому что присущая ему скверна обезображивает их красоту. И наоборот, слово добродетельного человека пусть не произносит ничего бесстыдного и безобразного — священные и чистые слова должны повествовать о чистом. (134) Говорят, в одном из самых благозаконных государств есть такой обычай. Когда кто-нибудь из тех людей, чья жизнь не была безупречной, пытается внести предложение в совет или народное собрание, власти запрещают ему делать это лично и требуют, чтобы он изложил свое предложение одному из достойных мужей. Тогда тот — новоиспеченный ученик, явившийся вместо сомкнувшего уста учителя, — встает и пересказывает услышанное, причем выражает чужие мысли, не удостоив их автора даже роли слушателя или зрителя. Итак, некоторые не считают достойным даже полезное принимать от несправедливых людей, полагая, что вред от сопровождающего пользу позора больше, чем ожидаемая польза.
(135) Во всяком случае, кажется, что святейший Моисей учит именно этому, говоря, что левит Аарон встречает брата Моисея и, увидев его, «радуется в себе» (Исх. 4:14). Слова «радуется в себе» в дополнение к уже сказанному выражают мысль в большей степени политическую: ведь Законодатель имеет в виду радость настоящую и более всего свойственную человеку. (136) Дело в том, что причиной истинной радости не может быть ни обилие денег или вещей, ни блеск славы, да и вообще что-либо внешнее — неодушевленное, непрочное и саморазрушающееся; а также сила и крепость вместе с остальными преимуществами тела — они являются достоянием даже самых негодных из людей и, кроме того, часто несут неотвратимую гибель их обладателям. (137) Таким образом, поскольку неподложная и неподдельная радость обнаруживается лишь в благах души, всякий мудрец и находит радость «в себе», а не в окружающем. Ведь внутри него — добродетели рассудка, которыми стоит гордиться. Окружающее же его — или благосостояние тела, или изобилие внешних благ, из-за которых возноситься не следует.
(138) Итак, доказав, насколько возможно, с помощью правдивейшего свидетельства Моисея, что радость — отличительное свойство мудреца, не меняя свидетеля, докажем теперь то же самое относительно надежды. Не случайно сына Сифа, именуемого Енос, что значит человек ... надежда. В согласии с этим Моисей говорит, что «он первым надеялся призвать имя Господа Бога» (Быт.4:26). В самом деле, что может быть более присуще истинному человеку, как не надежда и упование на приобретение благ от единственного щедрого Бога? По правде сказать, одно это и есть настоящее рождение людей, ибо те, которые не надеются на Бога, не обладают разумной природой. (139) Поэтому, сказав вначале, что Енос «надеялся призвать имя Господа Бога», Моисей прибавляет буквально следующее: «Вот книга рождения людей» (Быт.5:1), — и это важные слова. Ведь если в книге Бога написано, что только надеющийся — человек, то и обратное верно: не надеющийся — не человек. Определение нашей смешанной природы таково: животное разумное смертное. Согласно же Моисею, человек — это состояние души, надеющейся на истинно сущего Бога. (140) Итак, добродетельные люди, получившие счастливый жребий радости и надежды, должны или иметь блага, или, во всяком случае, ожидать их. А дурные, пребывающие в скорбях и страхах (именно к их сообществу принадлежит Каин), должны удостоиться тяжкой доли: или присутствия зол, или их ожидания. От имеющихся страданий они «стонут», а от ожидаемых ужасов «дрожат» итрепещут (Быт.4:12).
(141) Пусть сказанного об этом будет достаточно. Разберем следующие слова Моисея: «И сказал Каин Господу Богу: „Вина моя превосходит оставление»« (Быт.4:13). Значение сказанного станет ясно из сходных примеров. Если корабль в море останется без кормчего, разве он не обречен потерпеть в плавании полную неудачу? А если четверка лошадей окажется без возницы во время состязания в колесничном беге, разве не должен ее бег стать неуправляемым и беспорядочным? А когда город останется без начальников или законов (очевидно, и законы относятся к числу начальствующих), разве он не погибнет от двух величайших зол: безначалия и беззакония? Да и телу, конечно, суждено пропасть без души, душе — без разума, а разуму — без добродетели. (142) Но если каждая из названных мной потерь причиняет ущерб покинутым, то мы понимаем, что за беда ожидает тех, кого покинул Бог. Он отвернулся от них и изгнал их словно предателей, преступивших самые священные законы, ибо счел, что они недостойны Его опеки и власти. Одним словом, нужно признать, что величайшее наказание и осуждение терпит тот, кого оставляет лучшее и полезное. (143) В самом деле, когда, по-твоему, человек, не овладевший искусством, терпит наибольший ущерб? Разве не в тот миг, когда знание окончательно его оставит? А неуч и полный невежда? Не в тот ли миг, когда наставление и обучение объявят о разрыве с ним? А когда мы признаем неразумных несчастными больше обычного? Не в тот ли миг, когда разумность отторгнет их насовсем? А распущенных и несправедливых? Не тогда ли, когда воздержанность и справедливость осудят их на вечное изгнание? А нечестивых? Не в тот ли миг, когда благочестие лишит их доступа к своим священнодействиям? (144) Поэтому, как мне кажется, те, кто не окончательно потеряли возможность очиститься, скорее пожелают быть наказанными, чем «оставленными». Ведь «оставление» перевернет их так же легко, как корабли, лишенные балласта и кормчего, наказание же придаст им правильное положение.
(145) Или не лучше те, кто сносят упреки воспитателей за проступки, чем те, которые не имеют воспитателей? Не лучше ли порицаемые учителями за плохие успехи в искусствах, чем остающиеся без порицания? Разве не удачливее и успешнее по сравнению с беспризорными юношами те, которые как самого лучшего удостоились той установленной природой опеки и власти, что дана родителям над детьми, или хотя бы обрели новых наставников в лице тех, кого во всевозможных несчастьях сострадание к сиротам обычно назначает на место родителей?
(146) Итак, когда совесть уличает нас в несправедливых делах, давайте умолять Бога скорее о наказании, чем об освобождении. Ибо Он, милостивый хозяин, отпустив нас на свободу, сделает нас рабами безжалостного становления. Наказывая же нас — в силу своей благости снисходительно и мягко, — Он исправит ошибки посредством своего слова, вразумляющего изобличителя, посланного нашей мысли. С помощью слова пристыдив и укорив ее за совершенные промахи, Бог исцелит ее. (147) Поэтому Законодатель говорит: «Все, что вдова и изгнанная мужем провозгласит на душу ее, пребудет ей» (Чис.30:10). Ведь Бога мы по праву назовем мужем и отцом целого дающим всему семя и рождение, а мысль, которая не зачала божественное семя или зачала, но по своей воле извергла назад, — вдовой и изгнанной Богом. (148) Вот почему все, что она определит, она определит «против себя», и такое деяние «пребудет» совершенно неисцелимым. И правда, разве это не страшное зло, когда становление, совершенно неустойчивое и подвижное, определяет что-либо и с твердостью о себе высказывается, приписывая себе доблести Творящего, одна из которых — каждую вещь определять с несомненной точностью. (149) Вот почему она не просто «овдовеет», лишенная знания, но и «будет изгнана» за его пределы. Иначе говоря, если душа овдовела, лишившись прекрасного, но еще не изгнана за его пределы, она может, пожалуй, проявив выдержку, прийти к согласию и примирению с законным мужем, прямым разумом. Та же, которая из-за своей непримиримости покинула однажды супружеский дом, до конца века проживет отверженной, будучи не в силах вернуться в прежнее жилище.
(150) Пусть этим завершится рассуждение о словах «вина моя превосходит оставление». Рассмотрим следующие слова. «Если Ты, — говорит Каин, — изгоняешь меня теперь от лица земли, и от лица Твоего сокроюсь» (Быт.4:14). Что ты хочешь сказать, мой почтенный? Когда тебя совсем изгонят из земли, ты все еще будешь скрываться? (151) Каким образом? Ты сможешь жить? Или тебе неизвестно, что животным от природы даны не одинаковые, а разные места обитания: рыбам и всем водным существам — море, а всем живущим на суше — земля? И человек (хотя бы в том, что касается смешанной природы его тела) — это животное, обитающее на суше. Поэтому все, покинувшие свои исконные области и пришедшие «на чужбину», легко погибают: обитатели суши — опустившись под воду, а водные существа — выплыв на сушу. (152) Итак, куда ты направишься, когда тебя, человека, изгонят из земли? Уйдешь под воду, подражая природе водных существ? Но, погрузившись в нее, ты тут же умрешь. Или отрастишь крылья, поднимешься вверх и захочешь передвигаться по воздуху, превратив земную природу в пернатую? Что ж, если можешь, переливай и перечеканивай божественную монету. Но ты не сможешь, и чем выше ты себя вознесешь, тем быстрее — с большей силой из-за большей высоты — ты устремишься к своему исконному месту, земле.
(153) Да и может ли человек или что-либо возникшее скрываться от Бога? Где? От Того, Кто повсюду первый, Чей взгляд достигает самых пределов, Кем наполнено целое, Чьего присутствия не лишена даже самая малая часть бытия? Удивительно ли, что ничему из возникшего не доступно быть скрытым от Сущего? Ведь оно не в силах ускользнуть даже от материальных начал и вынуждено, избегая одного, переходить в другое. (154) Допустим, Сущее, подобно тому как Оно создавало земноводных, пожелало бы изобрести животное, способное жить повсюду. Это животное, избежав тяжеловесного, земли и воды, оказывалось бы в легком от природы, воздухе и огне. И наоборот, находясь в удаленных от земли местах и стремясь переселиться из них, оно перемещалось бы в противоположную область. В любом случае оно должно было бы появиться в одной из частей космоса, так как невозможно бежать за пределы целого. А кроме того, вне его пределов Демиург ничего не оставил: ведь строя мироздание, Он полностью израсходовал все четыре начала, чтобы из совершенных частей создать совершеннейшее целое. (155) Итак, если нет способа совершенно избежать Божьего создания, то еще более невозможно ускользнуть от его Творца и Предводителя.
Поэтому не следует переносить на закон свою собственную глупость и безрассудно принимать на веру тот смысл слов, что лежит на поверхности. Напротив, следует усердно распознавать то, о чем очевидное говорит намеками.
(156) В частности, словами «если Ты изгоняешь меня теперь от лица земли, и от лица Твоего сокроюсь» выражено, пожалуй, следующее: «Если Ты не жалуешь мне земных благ, я не принимаю и небесные», а также: «Если нельзя получать и вкушать наслаждения, то и добродетель я отвергаю», а также: «Если Ты не даешь мне человеческих благ, то не давай и божественных». (157) Ведь, по нашему мнению, необходимыми, ценными и поистине неподдельными являются следующие блага: есть, пить, услаждать зрение разнообразными красками, тешить слух разнообразно звучащими мелодиями, радовать обоняние благоуханным током ароматов, насыщать всяческими наслаждениями живот и следующие за животом части тела, не пренебрегать приобретением золота и серебра, окружать себя почестями, должностями и всем тем, что приносит славу. Давайте же расстанемся с суровыми расположениями разумности, самообладания и справедливости, которые отягощают жизнь. А если уж мы должны обладать ими, то пусть они будут не совершенными благами, а средствами к достижению блага.
(158) Смешной человек, ты утверждаешь, что тебе будет недоступно созерцание Бога, если ты лишишься телесных и внешних преимуществ? А по-моему, если ты их лишишься, оно будет тебе доступно наверняка: ибо освободившись от несокрушимых оков тела и телесного, ты запечатлеешь в себе Невозникшего.
(159) Разве ты не видишь, что Авраам «оставив землю, род и отчий дом» (Быт.12:1), то есть тело, чувства и речь, начинает встречать силы Сущего? Ведь «Бог явился ему» (Быт.12:7), когда он ушел от всех своих домашних, — гласит закон, доказывая, что Бог воочию является человеку, ускользнувшему от смертного и нашедшему прибежище в бестелесной душе нашего тела. (160) Поэтому и Моисей, «взяв свою скинию, закрепляет ее вне лагеря» (Исх.33:7) и переносит ее подальше от телесного войска в надежде, что только так он сможет стать совершенным просителем и почитателем Бога.
При этом отнюдь не случайно он говорит, что эта скиния «называется» скинией свидетельства, чтобы было ясно, что скиния Сущего существует, а не только называется. Дело в том, что из добродетелей именно добродетель Бога поистине существует как бытие, потому что лишь Бог имеет существование в бытии. По этой причине Законодатель должен будет сказать о нем: «Я есмь сущий» (Исх.3:14), — ибо то, что за Ним, не существует как бытие, а имеет лишь мнимое существование. А Моисеева скиния, символ человеческой добродетели, удостоится названия, а не бытия, являясь подобием и образом той, божественной, добродетели. (161) Следовательно, и Моисей, избранный «богом Фараона», не является им в действительности, а только мнится таковым. Ведь я знаю, что Бог дает и дарует, но я не могу вообразить, что Его дают. А в священных книгах говорится: «Я даю тебя в боги Фараону» (Исх.7:1). Тот, кого дают, претерпевает, а не действует. Между тем истинно Сущее по необходимости является действующим, а не претерпевающим. (162) Какой из этого вывод? Тот, что, хоть мудрец и назван богом для неразумного, на самом деле он не Бог, подобно тому как поддельная тетрадрахма не тетрадрахма. Если мудреца сравнить с Сущим, он окажется Божьим человеком, если же сравнить его с безрассудным человеком, он окажется богом, не истинным и существующим, а воображаемым и мнимым.
(163) К чему твои пустые слова: «Если Ты изгоняешь меня теперь от лица земли, и от лица Твоего сокроюсь» (Быт. 4:14)? Ведь, напротив, если Он изгонит тебя из землеподобного, то тебе ясно предстанет Его образ. И вот доказательство. Да, ты удалишься прочь от лица Бога, но, и удалившись, ты, тем не менее, будешь жить в земном теле. Ведь Моисей говорит дальше: «И ушел Каин от лица Божия и вселился в землю» (Быт.4:16). Итак, ты не оставил землю и не скрылся от Сущего, но отвернулся от Него и нашел прибежище в земле, смертной области. (164) И вопреки твоим софистическим рассуждениям отнюдь не всякий «нашедший убьет тебя» (Быт.4:14). Дело в том, что находимую вещь неизбежно находит одно из двух: или подобное ей, или неподобное. Подобное и родственное — по причине близости и общности всего [существующего], а неподобное — по причине враждебного отчуждения. При этом подобное защищает то, что ему близко, а неподобное губит отличное от него. (165) И Каин, и любой другой злодей должен знать, что он будет уничтожен не первым встречным, потому что негодяи, устремленные к близким и родственным порокам, станут его хранителями и стражами, а все те, кто в трудах обрели разумность и прочие добродетели, если сумеют, уничтожат его как непримиримого врага. Ведь, можно сказать, все тела и вещи оберегаются близкими и дружественными телами и вещами и гибнут от чуждых и враждебных. (166) Поэтому и оракул, опровергающий притворное простодушие Каина, гласит: «не так» ты думаешь, как говоришь (Быт.4:15). Хотя ты и говоришь, что всякий владеющий приемами твоего искусства уничтожит тебя, однако ты знаешь, что отнюдь не всякий (ибо на твоей стороне выстроилось многотысячное подкрепление), а лишь тот, кто добродетели друг, а тебе непримиримый враг.
(167) Моисей говорит: «Убивший Каина семижды наказуемое отплатит» (Быт.4:15). И в этом случае не знаю, какой смысл имеет сказанное, если его понимать буквально: он не объясняет, что такое «семь», в каком смысле «наказуемое», каким образом оно ослабевает и гибнет. Поэтому следует полагать, что все это говорится образно и иносказательно. (168) А сказать он хочет, пожалуй, вот что. Неразумная способность души разделяется на семь частей: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, речь, деторождение. Если кто-нибудь уничтожит восьмую — Каина, предводительствующий ими ум, то он погубит и эти семь. Дело в том, что, если рассудок вполне здоров, все они тоже здравствуют, если он болен, то и они страдают, если же он окончательно уничтожен пороком, то они ослабевают и гибнут. (169) В душе мудреца эти семь частей совершенно чисты и тем самым достойны почестей, а в душе безрассудного человека они нечисты и осквернены и, как он сказал, «наказуемы», то есть достойны наказания и возмездия.
(170) Не случайно ведь, когда Демиург решил очистить землю водой, так чтобы душа тщательно смыла с себя скверну и очистилась, словно участница священного обряда, от страшных преступлений, Он увещевает того, кто явил свою справедливость и не был унесен потоком наводнения, ввести в ковчег, то есть тело, сосуд души, «от скота чистого по семи, мужского пола и женского» (Быт.7:2). Ибо согласно Его справедливому требованию, добродетельный разум должен хранить в чистоте все части неразумной способности души.
(171) Это определение Законодателя по необходимости относится ко всем мудрецам: их зрение очищено, слух вместе со всеми органами чувств безупречен, речь безукоризненна, влечения к любовной близости не беззаконны. (172) Далее, каждая.из семи частей получает то мужскую природу, то женскую. В самом деле, они или покоятся, или движутся: покоятся, когда бездействуют во сне, а движутся во время бодрствования, когда действуют. То, что в покое и бездействии, поскольку оно предназначено для претерпевания, называется женским, а то, что в движении и действии, поскольку оно придумано для дела, именуется мужским. (173) Итак, у мудреца семь частей чисты, а у дурного человека все они, напротив, «наказуемы». Ведь нам известно, сколь многих ежедневно предают глаза, перебегающие на сторону цветов и очертаний, причем тех, что не подобает видеть; скольких — уши, следующие за всевозможными звуками; и скольких — органы обоняния и вкуса, увлекаемые благовониями и бесчисленным разнообразием прочих вещей. (174) Должен ли я еще говорить тебе о множестве погубленных безудержным течением разнузданной речи или неисцелимой заразой неодолимой похоти? Этими пороками полнятся города, полнится вся земля от края до края. Они источник постоянной, непрекращающейся и величайшей войны мирного времени, направленной против человеческого рода, — всех людей вместе и каждого в отдельности.
(175) Поэтому, мне кажется, что люди не совершенно необразованные предпочтут скорее ослепнуть, чем смотреть на неподобающее, скорее оглохнуть, чем слышать вредные речи, и остаться без языка, чтобы не произнести ничего недозволенного. (176) Говорят, чтобы на колесе не рассказать недозволенное, некие из мудрецов откусывали себе язык. Таким образом они придумывали против палачей пытку более мучительную, чем их собственная: ведь те не могли узнать желаемое. Поистине, лучше оскопить себя, чем неистово стремиться к беззаконным связям. Итак, все эти части, погружающие душу в неисцелимые беды, пожалуй, по справедливости получат наивысшее наказание и возмездие.
(177) Далее Моисей говорит: «Положил Господь Бог Каину знак: не убить его всякому встречающему его» (Быт.4:15). При этом он не объяснил, какой знак, хотя обычно именно посредством знака он показывает природу каждой вещи: так, в рассказе о событиях в Египте жезл превращается в змею, Моисеева рука видоизменяется в снег, а река — в кровь. (178) Пожалуй, сами эти слова «не убить его» и служат знаком того, что Каин не был уничтожен. В самом деле, нигде в законодательстве Моисей не объявил о смерти Каина, намекая, что неразумие — бессмертное зло, словно легендарная Сцилла, которая не подвластна настоящей смерти и может умирать целую вечность. О если бы случилось обратное, и все дурное, погибнув окончательно, исчезло прочь! Но пока, всякий раз оживая, оно поражает бессмертным недугом тех, кого однажды настигло.