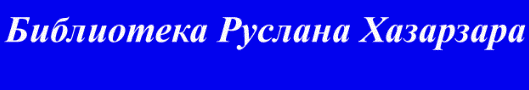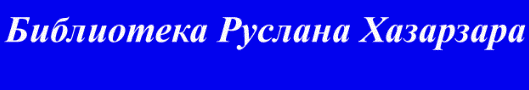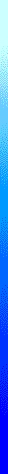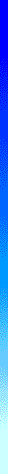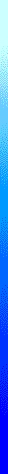 |
|

Артур Шопенгауэр
О ничтожестве и горестях
жизни[1]
От ночи бессознательности пробудившись
к жизни, воля видит себя индивидуумом в каком-то бесконечном и безграничном
мире, среди бесчисленных индивидуумов, которые все к чему-то стремятся,
страдают, блуждают; и как бы испуганная тяжелым сновидением, спешит она назад к
прежней бессознательности. Но пока она не вернется к ней, ее желания
беспредельны, ее притязания неисчерпаемы, и каждое удовлетворенное желание
рождает новое. Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы утишить ее
порывы, положить конец ее вожделениям и заполнить бездонную пропасть ее сердца.
И при этом обратите внимание на то, в чем обыкновенно состоит для человека
всякое удовлетворение: по большей части, это не что иное, как скудное
поддержание самой жизни его, которую необходимо с неустанным трудом и вечной
заботой каждый день отвоевывать в борьбе с нуждою, а в перспективе виднеется
смерть. Все в жизни говорит нам, что человеку суждено познать в земном счастии
нечто обманчивое, простую иллюзию. Для этого глубоко в сущности вещей лежат
задатки. И оттого жизнь большинства людей печальна и кратковременна.
Сравнительно счастливые люди по большей части счастливы только на вид, или же
они, подобно людям долговечным, представляют редкое исключение, для которого
природа должна была оставить возможность, как некую приманку. Жизнь рисуется
нам как беспрерывный обман, и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она
их не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало
желательно было желанное. Так обманывает нас то надежда, то ее исполнение. Если
жизнь что-нибудь дает, то лишь для того, чтобы отнять. Очарование дали
показывает нам райские красоты, но они исчезают, подобно оптической иллюзии,
когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем
или же в прошлом, а настоящее подобно маленькому темному облаку, которое ветер
гонит над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним все светло, только оно
само постоянно отбрасывает от себя тень. Настоящее поэтому никогда не
удовлетворяет нас, а будущее ненадежно, прошедшее невозвратно. Жизнь с ее
ежечасными, ежедневными, еженедельными и ежегодными, маленькими, большими
невзгодами, с ее обманутыми надеждами, с ее неудачами и разочарованиями —
эта жизнь носит на себе такой явный отпечаток неминуемого страдания, что трудно
понять, как можно этого не видеть, как можно поверить, будто жизнь существует
для того, чтобы с благодарностью наслаждаться ею, как можно поверить, будто
человек существует для того, чтобы быть счастливым. Нет, это беспрестанное
очарование и разочарование, как и весь характер жизни вообще, по-видимому,
скорее рассчитаны и предназначены только на то, чтобы пробудить в нас
убеждение, что нет ничего на свете достойного наших стремлений, борьбы и
желаний, что все блага ничтожны, что мир оказывается полным банкротом и жизнь
— такое предприятие, которое не окупает своих издержек; и это должно
отвратить нашу волю от жизни.
Это ничтожество всех объектов нашей воли
явно раскрывается перед интеллектом, имеющим свои корни в индивидууме, прежде
всего — во времени. Оно — та форма, в которой ничтожество
вещей открывается перед нами как их бренность: ведь это оно, время, под нашими
руками превращает в ничто все наши наслаждения и радости, и мы потом с
удивлением спрашиваем себя, куда они девались. Самое ничтожество это является,
следовательно, единственным объективным элементом времени, другими словами,
только оно, это ничтожество, и есть то, что соответствует ему, времени, во
внутренней сущности вещей, то, чего оно, время, является выражением. Вот почему
время и служит априори необходимой формой всех наших восприятий: в нем должно
являться все, даже и мы сами. И оттого наша жизнь прежде всего подобна платежу,
который весь подсчитан из медных копеек и который надо все-таки погасить: эти
копейки — дни, это погашение — смерть. Ибо в конце концов время
— это оценка, которую делает природа всем своим существам: оно обращает их
в ничто:
Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться,
Годна вся эта дрянь, что на земле живет.
Не лучше ль было б им уж вовсе не
родиться![2]
Так старость и смерть, к которым
неуклонно поспешает всякая жизнь, являются осуждающим приговором над волей к
жизни: выносит этот приговор сама природа, и гласит он, что эта воля —
стремление, которому во веки веков не суждено осуществиться. “Чего ты
хотел, — гласит он, — имеет такой конец: восхоти же чего-нибудь
лучшего”. Таким образом, урок, который всякий выносит из своей жизни,
заключается в том, что предметы наших желаний всегда обманывают нас, колеблются
и гибнут, приносят больше горя, чем радости, пока, наконец, не рухнет та почва,
на которой все они зиждутся, и не погибнет самая жизнь, в последний раз
подтверждая, что все наши стремления и желания были обманом, были ошибкой:
И старость, и опыт ведут заодно
К последнему часу, когда суждено
Понять после долгих забот и мученья,
Что в жизни брели мы путем заблужденья.
Рассмотрим, однако, этот вопрос
обстоятельнее, потому что именно эти мои взгляды больше всего встретили себе
возражений. И, прежде всего, я представлю следующие подтверждения данному мною
в тексте доказательству того, что всякое удовлетворение, т.е. всякое
удовольствие и всякое счастье, имеет отрицательный характер, между тем как
страдание по своей природе положительно.
Мы чувствуем боль, но не чувствуем
безболезненности; мы чувствуем заботу, а не беззаботность, страх, а не
безопасность. Мы чувствуем желание так же, как чувствуем голод и жажду; но как
только это желание удовлетворено, с ним происходит то же, что со съеденным
куском, который перестает существовать для нашего чувства в то самое мгновение,
когда мы его проглотим. Болезненно жаждем мы наслаждений и радостей, когда их
нет; отсутствие же страданий, хотя бы и они прекратились после того, как долго
мучили нас, непосредственно нами не ощущается, мы можем думать об их отсутствии
разве только намеренно, посредством рефлексии. Все это — потому, что
только страдания и лишения могут ощущаться нами положительно и оттого сами
возвещают о себе; наоборот, благополучие имеет чисто отрицательный характер.
Вот почему три высшие блага жизни — здоровье, молодость и свобода, не
сознаются нами, как такие, покуда мы их имеем: мы начинаем сознавать их лишь
тогда, когда потеряем их; ведь и они — отрицания. Что дни нашей жизни были
счастливы, мы замечаем лишь тогда, когда они уступают свое место дням
несчастным. В той мере, в какой возрастают наслаждения, уменьшается
восприимчивость к ним: привычное уже не доставляет нам наслаждения. Но именно
потому возрастает восприимчивость к страданию, так как утрата привычного
заставляет нас очень страдать. Таким образом, обладание расширяет меру
необходимого, а с нею и способность чувствовать страдание. Часы протекают тем
быстрее, чем они приятнее, и тем медленнее, чем они мучительнее, ибо страдание,
а не наслаждение — вот то положительное, наличность чего нами ощущается.
Точно так же, скучал, мы замечаем время, а развлекаясь — нет. Это
доказывает, что наше существование счастливее всего тогда, когда мы его меньше
всего замечаем: отсюда следует, что лучше было бы совсем не существовать.
Великие, живые радости можно представить себе лишь как результат
предшествовавших великих скорбей, потому что состояние продолжительного
довольства может сопровождаться только некоторыми развлечениями или
удовлетворением суетности. Оттого все поэты вынуждены ставить своих героев в
самые тягостные и мучительные положения, для того чтобы потом снова освобождать
их оттуда: драма и эпос всегда изображают нам одних только борющихся,
страдающих и угнетаемых людей, и всякий роман — это панорама, в которой
видны содрогания и судороги страдающего человеческого сердца. Эту эстетическую
необходимость наивно выразил Вальтер Скотт в “Заключении” к своей
новелле «Давняя мораль». В точном соответствии с указанной мной
истиной говорит и Вольтер, столь одаренный природой и счастьем: “счастье
— только греза, а скорбь реальна”, и к этому он прибавляет: “вот
уже восемьдесят лет, как я испытываю это на себе. Я вынес из них только
сознание о необходимости покорного смирения, и я говорю себе, что мухи
рождаются для того, чтобы их съедали пауки, а люди — для того, чтобы их
глодали скорби”.
Прежде чем так уверенно говорить, что
жизнь — благо, достойное желаний и нашей признательности, сравните-ка
беспристрастно сумму всех мыслимых радостей, какие только человек может
испытать в своей жизни, с суммой всех мыслимых страданий, какие он в своей
жизни может встретить. Я думаю, что подвести баланс будет не трудно. Но в
сущности, совсем излишне спорить, чего на свете больше — благ или зол, ибо
уже самый факт существования зла решает вопрос: ведь зло никогда не погашается,
никогда не уравновешивается тем добром, которое существует наряду с ним или
после него: “Тысячи наслаждений не стоят одной муки” (Петрарка). Ибо
то обстоятельство, что тысячи людей утопали в счастья и наслаждении, не
устраняет страданий и мук одного человека; и точно так же мое настоящее
благополучие не уничтожает моих прежних страданий. Если бы поэтому зла в мире
было и во сто раз меньше, чем его существует ныне, то и в таком случае самого
факта его существования было бы уже достаточно для обоснования той истины,
которую можно выражать на разные лады, но которая никогда не найдет себе вполне
непосредственного выражения, той истины, что бытие мира должно не радовать нас,
а скорее печалить; что его небытие было бы предпочтительнее его бытия; что он
представляет собою нечто такое, чему бы, в сущности, не следовало быть и т.д.
Необычайно красиво выражает эту мысль Байрон:
“Есть что-то неестественное в характере нашей жизни: в гармонии вещей
не может лежать она, — этот суровый рок, эта неискоренимая зараза греха,
этот безграничный Предел, это всеотравляющее древо, корни которого —
земля, листья и ветви которого — тучи, как росу, струящие на людей свои
скорби: болезни, смерть, рабство — все то горе, которое мы видим, и, что
хуже, все то горе, которого мы не видим и которое все новою и новою печалью
волнует неисцелимую душу”.
Если бы жизнь и мир были сами себе
целью и поэтому теоретически не нуждались в оправдании, а практически — в
вознаграждении или поправке; если бы они, как это думают Спиноза и современные
спинозисты, существовали в качестве единой манифестации некоего бога, который
по причине души или ради самоотражения затеял подобную эволюцию с самим собою;
если бы существование мира не нуждалось, таким образом, ни в оправдании из его
причин, ни в объяснении из его следствий, то страдания и горести жизни не то
что должны были бы вполне уравновешиваться наслаждениями и благополучием в ней
(это невозможно, как я уже сказал, потому, что мое настоящее страдание никогда
не уничтожается будущими радостями: ведь они так же наполняют свое время, как
оно — свое), но в жизни и совсем не должно было бы быть никаких страданий,
да и смерти не должно было бы существовать, или не должна была бы она
представлять для нас ничего страшного. Лишь в таком случае жизнь окупала бы
себя.
А так как наше положение в мире
представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее
нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому как в аду все пахнет серой:
все на свете несовершенно и обманчиво, все приятное перемешано с неприятным,
каждое удовольствие — удовольствие только наполовину, всякое наслаждение
разрушает само себя, всякое облегчение ведет к новым тягостям, всякое средство,
которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной и ежечасной нужде, каждую минуту
готово покинуть нас и отказать в своей услуге; ступеньки лестницы, на которую
мы поднимаемся, часто ломаются под нашими ногами; невзгоды большие и малые
составляют стихию нашей жизни, и мы, одним словом, уподобляемся Финею, которому
гарпии гадили все яства и делали их
несъедобными[3]. Два средства
употребляют против этого: во-первых, осторожность, т.е. ум,
предусмотрительность, лукавство, — но оно ничему не научает, ничего не
достигает и терпит неудачу; во-вторых, стоическое равнодушие, которое думает
обезоружить всякую невзгоду тем, что готово принять их все и презирает все; на
практике оно обращается в циническое опрощение, которое предпочитает раз
навсегда отвергнуть все удобства и стремления к лучшей жизни и которое делает
из нас каких-то собак вроде Диогена в его бочке. Истина же такова: мы должны
быть несчастны, и мы несчастны. При этом главный источник самых серьезных зол,
постигающих человека, это сам человек: человек человеку волк. Кто твердо помнит
это, для того мир представляется как некий ад, который тем ужаснее дантовского
ада, что здесь один человек должен быть дьяволом для другого, к чему,
разумеется, не все одинаково способны, а способнее всех какой-нибудь
архидьявол: приняв на себя облик завоевателя, он ставит несколько сот тысяч
людей друг против друга и кличет им: “страдание и смерть — вот ваш
удел: палите же друг в друга из ружей и пушек!”, — и они
повинуются.
И вообще, взаимные отношения людей
отмечены по большей части неправдой, крайнею несправедливостью, жесткостью и
жестокостью: только в виде исключения существуют между ними противоположные
отношения; вот на чем и зиждется необходимость государства и законодательства,
а не на ваших умствованиях. Во всех же тех пунктах, которые лежат вне сферы
государственного закона, немедленно проявляется свойственная человеку
беспощадность по отношению к ближнему, и вытекает она из его безграничного
эгоизма, а иногда и злобы. Как обращается человек с человеком, это показывает,
например, порабощение негров, конечною целью которого служат сахар и кофе. Но
не надо идти так далеко из Европы: в пятилетнем возрасте поступить в
бумагопрядильню или на какую-нибудь другую фабрику, сидеть в ней сначала
десять, потом двенадцать, наконец, четырнадцать часов ежедневно и производить
все ту же механическую работу — это слишком дорогая плата за удовольствие
перевести дух. А такова участь миллионов, и сходна с нею участь многих других
миллионов.
Нас же, людей общественного положения,
малейшие невзгоды могут сделать вполне несчастными, а вполне счастливыми не
может сделать вас ничто на свете. Что бы ни говорили, самое счастливое
мгновение счастливого человека — это когда он засыпает, как самое
несчастное мгновение несчастного — это когда он пробуждается. Косвенное,
но бесспорное доказательство того, что люди чувствуют себя несчастными, а,
следовательно, таковы и на самом деле, в избытке дает еще и присущая всем лютая
зависть, которая просыпается и не может сдержать своего яда во всех случаях
жизни, как только возвестят о себе чья-нибудь удача или заслуга, какого бы рода
они ни были. Именно потому, что люди чувствуют себя несчастными, они не могут
спокойно видеть человека, которого считают счастливым; кто испытывает чувство
неожиданного счастья, тот хотел бы немедленно осчастливить все кругом себя и
восклицает:
Ради моей радости да будет счастлив весь мир вокруг.
Если бы жизнь сама по себе была ценное
благо и если бы ее решительно следовало предпочитать небытию, то не было бы
нужды охранять ее выходные двери такими ужасными привратниками, как смерть и ее
ужасы. Кто захотел бы оставаться в жизни, какова она есть, если бы смерть была
не так страшна? И кто мог бы перенести самую мысль о смерти, если бы жизнь была
радостью?
Теперь же смерть имеет еще ту хорошую
сторону, что она — конец жизни, и в страданиях жизни мы утешаем себя
смертью и в смерти утешаем себя страданиями жизни. Истина же в том, что и
смерть, и жизнь с ее страданиями представляют одно неразрывное целое —
один лабиринт заблуждений, выйти из которого так же трудно, как и желательно.
Если бы мир не был чем-то таким, чему в
практическом отношении лучше бы не быть, то и в теоретическом отношении он не
представлял бы собою проблемы: его существование или совсем не нуждалось бы в
объяснении так как оно было бы настолько понятно само собою, что никому бы и в
голову не приходило ни удивляться ему, ни спрашивать о нем; или же цель этого
существования была бы для всех очевидна. На самом же деле мир представляет
собою неразрешимую проблему, так как даже в самой совершенной философии всегда
будет еще некоторый необъясненный элемент, подобно неразложимому химическому
осадку или тому остатку, который всегда получается в иррациональном отношении
двух величин. Поэтому, когда кто-нибудь решается задать вопрос, почему бы этому
миру лучше вовсе не существовать, то мир не может ответить на это, не может
оправдать себя из самого себя, не может найти основания и конечной причины
своего бытия в самом себе и доказать, что существует он ради самого себя, т.е.
для собственной пользы. Согласно моей теории, это объясняется, конечно, тем,
что принцип бытия мира не имеет решительно никакого основания, т.е.
представляет собою слепую волю к жизни, а эта воля как вещь в себе не может
быть подчинена закону основания, который служит только формой явлений и который
один оправдывает собою всякое “почему?”. А это вполне отвечает и
характеру мира, ибо только слепая, а не зрячая воля могла поставить самое себя
в такое положение, в каком мы видим себя. Зрячая воля, напротив, скоро
высчитала бы, что предприятие не покрывает своих издержек, ибо жизнь,
исполненная необузданных порываний и борьбы, требующая напряжения всех сил,
обремененная вечной заботой, страхом и нуждой, неминуемо влекущая к разрушению
индивидуального бытия, такая жизнь не искупается самым существованием человека,
которое завоевано столь трудной ценою, эфемерно и под нашими руками
расплывается в ничто. Вот почему объяснение мира из некоторого анаксагоровского
“ума”, т.е. из некоторой воли, руководимой сознанием, непременно
требует известной прикрасы в виде оптимизма, который и находит себе тогда своих
защитников и глашатаев наперекор вопиющему свидетельству целого мира,
исполненного страданий. Оптимизм изображает нам жизнь в виде какого-то подарка,
между тем как до очевидности ясно, что если бы раньше нам показали и дали
попробовать этот подарок, то всякий с благодарностью отказался бы от него;
недаром Лессинг удивлялся уму своего сына, который ни за что не хотел выходить
на свет, был насильно извлечен в него акушерскими щипцами и, не успев явиться,
сейчас же поспешил уйти из мира. Правда, говорят, что жизнь от одного своего
конца и до другого представляет собою не что иное, как назидательный урок; на
это всякий может ответить: “именно поэтому я и хотел бы, чтобы меня
оставили в покое самодовлеющего ничто, где я не нуждался ни в уроках, ни в чем
бы то ни было”. И если к этому прибавляют, что всякий человек должен будет
в свое время дать отчет о каждом часе своей жизни, то скорее мы сами вправе
требовать, чтобы сначала нам дали отчет в том, за что нас лишили прежнего покоя
и ввергли в такое несчастное, темное, трудное и скорбное положение. Вот куда,
значит, приводят неверные принципы. Поистине, человеческое бытие нисколько не
имеет характера подарка: напротив, оно скорее представляет собою долг, который
мы должны заплатить по условию. Взыскание по этому обязательству предъявляется
нам в виде неотложных потребностей, мучительных желаний и бесконечной скорби,
проникающих все наше бытие. На уплату этого долга уходит обыкновенно вся наша
жизнь, но и она погашает только одни проценты. Уплата же капитала производится
в момент смерти. Но когда же заключили мы само долговое обязательство? В момент
рождения...
Если, таким образом, смотреть на человека
как на существо, жизнь которого представляет собою некую кару и искупление, то
он предстанет нам уже в более правильном свете. Сказание о грехопадении
(впрочем, заимствованное, вероятно, как и все иудейство, из
«Зенд-Авесты» Бун-Дехеш, 15) — вот единственное в книгах евреев,
за чем я могу признать некоторую метафизическую, хотя и аллегорическую только,
истинность; лишь оно одно и примиряет меня с этими книгами. Ибо ни на что так
не похожа наша жизнь, как на плод некоторой ошибки и предосудительной похоти.
Новозаветное христианство, этический дух которого сродни духу брахманизма и
буддизма и чужд, следовательно, оптимистическому духу евреев, тоже, в высшей
степени мудро, связало себя с этим сказанием: без него оно совсем не имело бы
никакой точки соприкосновения с иудейством. Если вы хотите измерить степень
вины, которая тяготеет над нашим бытием, то взгляните на страдания, с которыми
связано последнее. Всякая великая боль, будь то физическая или духовная,
говорит нам, чего мы заслуживаем, она не могла бы постигнуть нас, если бы мы ее
не заслужили. То, что и христианство рассматривает нашу жизнь именно в этом
свете, доказывает одно место из Лютеровского комментария к третьей главе
«Послания к Галатам»; у меня имеется оно только в латинском тексте:
“А ведь во всей нашей телесности и со всеми вещами мы подчинены Дьяволу, и
мы гости мира, в котором он владыка и Бог. Ибо хлеб, который вкушаем, напитки,
которые пьем, одежды, которыми укрываемся, да и воздух и все, чем живем
плотски, — все это находится под его властью”. Кричали, что моя
философия меланхолична и безотрадна: но это объясняется просто тем, что я,
вместо того чтобы в виде эквивалента грехов изображать некоторый будущий ад,
показал, что всюду в мире, где есть вина, находится уже и нечто подобное аду;
кто вздумал бы отрицать это, тот легко может когда-нибудь испытать это на самом
себе. И этот мир, эту сутолоку измученных и истерзанных существ, которые живут
только тем, что пожирают друг друга; этот мир, где всякое хищное животное
представляет собою живую могилу тысячи других и поддерживает свое существование
целым рядом чужих мученических смертей; этот мир, где вместе с познанием
возрастает и способность чувствовать горе, способность, которая поэтому в
человеке достигает своей высшей степени, и тем высшей, чем он интеллигентнее,
этот мир хотели приспособить к лейбницевской системе оптимизма и
демонстрировать его как лучший из возможных миров. Нелепость вопиющая! Но вот
оптимист приглашает меня раскрыть глаза и посмотреть на мир, как он прекрасен в
озарении своего солнца, со своими горами, долинами, потоками, растениями,
животными и т.д. Но разве мир — панорама? Как зрелище — все эти вещи,
конечно, прекрасны; но быть ими — это нечто совсем другое. Затем приходит
телеолог и восхваляет мне премудрость творения, которая позаботилась о том,
чтобы планеты не сталкивались между собою головами, чтобы суша и море не
обратились в кашу, а как следует были разделены между собою, чтобы вселенная не
оцепенела в беспрерывной стуже и не сгорела от зноя, чтобы с другой стороны
вследствие наклона эклиптики не царила вечная весна, когда ничто не могло бы
созреть, и т. п. Но ведь все эти вещи и подобные им — только необходимые
условия. Коль скоро вообще должен существовать какой-нибудь мир, коль скоро его
планеты не должны, подобно сыну Лессинга, сейчас же по рождении возвращаться
назад, а должны существовать, по крайней мере, столько времени, сколько нужно
для того, чтобы к ним успел дойти световой луч от какой-нибудь отдаленной и
неподвижной звезды, то, разумеется, этот мир и нельзя было сколотить так
неумело, чтобы уже самый остов его грозил падением. Когда же мы перейдем к
результатам восхваляемого произведения, когда мы присмотримся к актерам,
которые действуют на столь прочно устроенной сцене, когда мы увидим, что вместе
с впечатлительностью появляется и страдание, возрастая в той мере, в какой она
развивается до интеллигенции, и что рука об руку с последней, все больше и
больше выступают и усиливаются алчность и горе, пока, наконец, человеческая
жизнь не обращается в сплошной материал для одних только комедий и трагедий,
тогда ни один человек, если только он не лицемер, не почувствует склонности
петь славословия. Впрочем, настоящий, хотя и скрываемый, источник последних
беспощадно, но с победоносной убедительностью выяснил нам Давид Юм в своей
«Естественной истории религии», разделы 6, 7, 8 и 13. Этот же
писатель в 10-й и 11-й книгах своих «Диалогов о естественной религии»
откровенно изображает, посредством очень метких, хотя и совершенно иных,
сравнительно с моими, аргументов, скорбное положение этого мира и
несостоятельность всякого оптимизма, причем он разбивает последний в самом его
источнике. Оба сочинения Юма настолько же примечательны, насколько и неизвестны
современной Германии, где зато, из патриотизма, несказанно услаждаются скучной
болтовней туземных, надутых посредственностей и провозглашают их великими
людьми. Между тем эти «Диалоги» Гаман перевел, Кант просмотрел
перевод и уже в старости склонял сына Гамана издать эту работу, потому что
перевод, сделанный Платнером, не удовлетворял его (см. биографию Канта,
составленную Ф. В. Шубертом, стр. 81 и 165). Из каждой страницы Давида Юма
можно почерпнуть больше, чем из полного собрания философских сочинений Гегеля,
Гербарта и Шлейермахера, вместе взятых.
Основателем же систематического оптимизма
является Лейбниц. Я не думаю отрицать его заслуг перед философией, хотя мне и
ни разу не удалось настоящим образом вникнуть в его монадологию,
предустановленную гармонию (harmonia prestabilitae) и “тождество [вещей]
неразличимых”. Что же касается его «Новых опытов о разумении»,
то это — простой экстракт, снабженный обстоятельной, якобы исправляющей,
но слабой критикой справедливо знаменитого сочинения Локка, против которого он
выступает здесь так же неудачно, как и против Ньютона, — в своем
направленном против системы тяготения «Опыте о причине небесных
движений». Именно против этой лейбнице-вольфианской философии специально и
направлена «Критика чистого разума»: последняя относится к ней
враждебно и даже уничтожает ее, между тем как по отношению к философии Локка и
Юма она служит продолжением и дальнейшим развитием. Если современные профессора
философии всячески стараются опять поставить на ноги Лейбница со всеми его
вывертами и даже возвеличить его; если они, с другой стороны, хотят как можно
больше принизить и устранить со своей дороги Канта, то это имеет свое полное
основание в том, чтобы “сперва жить”: ведь «Критика чистого
разума» не позволяет выдавать еврейскую мифологию за философию и без
околичностей говорить “о душе”, как о некоторой данной реальности,
как обо всем известной и хорошо аккредитованной особе, нет, она требует отчета
в том, как философы дошли до этого понятия и какое право имеют они делать из
него научное употребление. Но сперва жить, а уж потом философствовать! Долой
Канта! Виват наш Лейбниц! Возвращаясь к последнему, я должен сказать следующее:
за его «Теодицеей», этим методическим и пространным развитием
оптимизма, я, в данном ее качестве, не могу признать никакой другой заслуги,
кроме той, что она впоследствии дала повод к бессмертному «Кандиду»
великого Вольтера, в чем, правда, неожиданно для самого Лейбница, нашел себе
подтверждение тот аргумент, с помощью которого он столь часто и столь плоско
извинял существование зла в мире: дурное иногда влечет за собою хорошее.
Вольтер уже в самом имени своего героя намекнул на то, что надо быть только
искренним, для того чтобы исповедовать нечто противоположное оптимизму. И
действительно, на этой арене греха, страданий и смерти оптимизм представляет
собою такую странную фигуру, что его надо было бы считать иронией, если бы, как
я уже упомянул, для нас не было достаточно ясно его возникновение, благодаря
Юму, который так забавно вскрыл его потайной источник (это — лицемерная
лесть с оскорбительным упованием на ее успех).
Явно софистическим доказательствам
Лейбница, будто этот мир — лучший из возможных миров, можно вполне
серьезно и добросовестно противопоставить доказательство, что этот мир —
худший из возможных миров. Ибо “возможное” — это не то,
что вздумается кому-нибудь нарисовать себе в своей фантазии, а то, что
действительно может существовать и держаться. И вот наш мир устроен именно так,
как его надо было устроить для того, чтобы он мог еле-еле держаться; если бы он
был еще несколько хуже, он бы совсем уже не мог существовать. Следовательно,
мир, который был бы хуже нашего, совсем невозможен, потому что он не мог бы и
существовать, и значит, наш мир — худший из возможных миров. В самом деле:
не только в том случае, если бы планеты сшибались между собою головами, но если
бы из действительно происходящих пертурбаций их движения какая-нибудь одна,
вместо того чтобы постепенно уравняться с другими, продолжала возрастать, то
миру скоро пришел бы конец: астрономы знают, от каких случайных обстоятельств
это зависит, главным образом, от иррациональности во взаимном отношении
периодов круговращения планет; и они старательно высчитали, что при таких
условиях катастрофы не будет и мир, как-никак, может продержаться. Будем
надеяться, что они не ошиблись в своих вычислениях (хотя Ньютон и был
противоположного мнения) и что механическое вечное движение, осуществляемое в
подобной системе планет, не остановится в конце концов, как останавливается
всякое другое: Под твердой корою планеты живут, с другой стороны, могучие силы,
и если какая-нибудь случайность выпускает их на свободу, то они неминуемо
разрушают эту оболочку со всем обитающим на ней; на нашей планете это случалось
уже по крайней мере три раза. Лиссабонское землетрясение, землетрясение в
Гаити, разрушение Помпеи — все это только маленькие шаловливые намеки на
возможную катастрофу. Ничтожное, даже недоступное для химии изменение в
атмосфере влечет за собою холеру, желтую лихорадку, черную смерть и т. д.; все
это похищает миллионы людей, и если бы такое изменение было несколько больше,
то оно погасило бы всякую жизнь. Очень умеренное повышение температуры могло бы
высушить все источники и реки. Животным, в их органах и силах, отмерено в
образе именно столько, сколько необходимо для того, чтобы они ценою крайнего
напряжения могли поддерживать свою жизнь и кормить свое потомство; вот почему
животное, лишившись какого-нибудь члена или просто даже способности идеально
функционировать им, по большей части обрекается на гибель. Даже среди людей,
несмотря на те могучие орудия, которые они имеют в своем рассудке и в своем
разуме, даже среди них девять десятых живут в постоянной борьбе с нуждою, вечно
стоят на краю гибели и с трудом и усилиями удерживают на нем равновесие. Таким
образом, как для жизни целого, так и для жизни каждого отдельного существа
условия даны лишь в обрез и скупо, не более того, сколько нужно для
удовлетворения потребностей; оттого жизнь индивидуума проходит в беспрерывной
борьбе за самое существование, на каждом шагу ей угрожает гибель. Именно
потому, что эта угроза так часто приводится в исполнение, явилась нужда в
невероятно большом избытке зародышей для того, чтобы вместе с индивидуумами не
гибли и роды, в которых одних природа серьезно заинтересована. Мир, значит, так
дурен, как только он может быть дурен, коль скоро ему следует быть вообще, что
и требовалось доказать. Окаменелости совершенно неведомых животных пород,
которые некогда обитали на нашей планете, представляют собою образчики и
документальные свидетельства о мирах, дальнейшее существование которых стало
уже невозможным и которые, следовательно, были еще несколько хуже, чем худший
из возможных миров.
Оптимизм, это — в сущности незаконное
самовосхваление истинного родоначальника мира, т.е. воли к жизни, которая
самодовольно любуется на себя в своем творении; и вот почему оптимизм — не
только ложное, но и пагубное учение. В самом деле: он изображает перед нами
жизнь как некое желанное состояние, целью которого является будто бы счастье
человека. Исходя отсюда, каждый думает, что он имеет законнейшее право на
счастье и наслаждение; и если, как это обыкновенно бывает, последние не
выпадают на его долю, то он считает себя несправедливо обиженным и не достигшим
цели своего бытия; между тем гораздо правильнее было бы видеть цель нашей жизни
в труде, лишениях, нужде и скорбях, венчаемых смертью (как это и делают
брахманизм и буддизм, а также и подлинное христианство), потому что именно эти
невзгоды вызывают у нас отрицание воли к жизни. В Новом Завете мир изображается
как юдоль печали, жизнь — как процесс очищения и символом христианства
служит орудие муки. Поэтому, когда Лейбниц, Шефтсбери, Боллингброк и Поп
выступили со своим оптимизмом, то общее смущение, с которым они были встречены,
зиждилось главным образом на том, что оптимизм и христианство несовместимы, как
это основательно выяснил Вольтер в предисловии к своему прекрасному
стихотворению «Разрушение Лиссабона», которое тоже решительно
направлено против оптимизма. То, что ставит этого великого мужа, которого я,
вопреки поношениям продажных немецких бумагомарак, так любовно прославляю, то,
что ставит его гораздо выше Руссо, обнаруживая в нем большую глубину мысли, это
— следующие три воззрения его: 1) он глубоко был проникнут сознанием
подавляющей силы зла и скорби человеческого существования; 2) он был убежден в
строгой необходимости волевых актов; 3) он считал истинным положение Локка, что
мыслящее начало вселенной может быть и материальным; между тем Руссо в своих
декламациях оспаривал все это, как, например, в своем «Исповедании веры
савойского викария», этой плоской философии протестантских пасторов; в
этом же духе он, во славу оптимизма, выступил с нелепым, поверхностным и
логически неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного
стихотворения Вольтера — в специально посвященном этой цели длинном письме
к последнему от 18-го августа 1756 года. Вообще, основная черта и первооснова
всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о
первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода он выставил
принцип изначальной доброты последнего и его безграничной способности к
совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием
цивилизации и ее плодов; на этом и основывает Руссо свой оптимизм и
гуманизм.
Как Вольтер в своем «Кандиде»
вел войну с оптимизмом в своей шутливой манере, так Байрон выступил против
этого же мировоззрения в манере трагической и серьезной — в своем
бессмертном и великом творении «Каин», за что и удостоился поношений
со стороны обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих
взглядов я хотел привести изречения великих умов всех времен в этом враждебном
оптимизму духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякий из этих умов
в сильных словах высказался о безотрадности нашего мира. Поэтому не для
подтверждения своих взглядов, а только для украшения этой главы я закончу ее
несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего упомяну, что греки, как ни
далеки они были от христианского и верхнеазийского миросозерцания, как ни
решительно занимали они позицию утверждения воли, все-таки были глубоко
проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно
они создали трагедию. Другое подтверждение этого дает нам, впервые сообщенный
Геродотом (V, 4), а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями,
фракийский обычай приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним
все злополучия, которые отныне угрожают ему, тогда как мертвого фракийцы
хоронили весело и с шутками, радуясь тому, что он отныне избыл множество
великих страданий; это в прекрасных стихах, которые сохранил для нас Плутарх
(«О поэтических вольностях», в конце), звучит следующим образом:
“Они оплакивали родившегося, который идет навстречу стольким печалям;
а если кто в смерти находил конец своим страданиям, того друзья выносили
с приветом и радостью”.
Не историческому родству народов, а
моральному торжеству самого факта надо приписать то, что мексиканцы
приветствовали новорожденного следующими словами: “Дитя мое, ты родилось
для терпения: терпи же, страдай и молчи”. И повинуясь тому же чувству,
Свифт (как это передает Вальтер Скотт в его биографии) уже сызмлада приобрел
привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент
печали, а в этот день всегда читал он то место из библии, где Иов оплакивает и
проклинает день, когда сказали в дому отца его: родился сын.
Было бы слишком долго переписывать то
известное место в «Апологии Сократа», где Платон в уста этого
мудрейшего из смертных влагает слова, что если бы смерть даже навсегда похищала
у нас сознание, то она все-таки была бы дивное благо, ибо глубокий сон без
сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни.
Одно изречение Гераклита гласило так:
“Жизнь только по имени жизнь, на деле же — смерть”
(«Большая этимология слова “жизнь”»; также Эвстет об
«Илиаде»).
Знамениты прекрасные стихи Феогнита:
“Лучший жребий человека — это совсем не родиться, не видеть дня и
солнечных лучей; а если уж родился человек, то лучше всего тотчас же
низринуться ему в Аид и скрыть свое угнетенное тело во глубине земли”.
Софокл в «Эдипе в Колоне» (1225)
так сократил это изречение:
Величайшее первое благо - совсем
Не рождаться, второе - родившись,
Умереть поскорей...[4]
Эврипид говорит:
О, мученье людей, бесконечный недуг![5]
Да уже и Гомер сказал:
“Нет нигде и ничего несчастнее человека — изо всех существ,
которые дышат и живут на земле”.
Даже Плиний говорит: “Это —
первое, чем располагает каждый для исцеления своей души; изо всех благ, которые
уделила человеку природа, нет ничего лучше своевременной смерти”.
Шекспир в уста старого короля Генриха IV
влагает следующие слова:
Да! если б мы могли читать заветы
Грядущего и видеть, как неверна
Судьба людей, — что наша жизнь, как чаша,
Покорная лишь случаю слепому,
Должна поочередно наполняться
То радостью, то горем, — как бы много
Счастливейших, наверно, предпочли
Скорее умереть, чем жить такой
Печальною, зависимою жизнью.[6]
Наконец, Байрон сказал так:
“Сосчитай те часы радости, которые ты имел в жизни; сосчитай те дни, в
которые ты был свободен от тревоги, и пойми, что какова бы ни была твоя жизнь,
лучше было бы тебе не жить”.
И Бальтазар Грациан в самых мрачных
красках рисует нам горесть нашего бытия в своем «Критиконе», часть I,
рассужд. 5, в самом начале, и рассужд. 7, в конце, где он обстоятельно
изображает жизнь как трагический фарс.
Никто, однако, столь глубоко и
исчерпывающе не раз работал этого вопроса, как в наши дни Леопарди. Он все цело
проникся своей задачей: его постоянной темой служит насмешливость и горечь
нашего бытия; на каждой странице своих произведений рисует он их, но в таком
изобилии форм и сочетаний, в таком богатстве образов, что это никогда не
надоедает, а наоборот, представляет живой и волнующий интерес.
[1]
Источник: Шопенгауэр А. Избранные произведения / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. И. С. Нарский. - М.: Просвещение, 1992. - стр. 63 - 80.
[2]
"Фауст" Гете, перевод Н. Холодковского.
[3]
Все, за что мы не беремся, противится нам потому, что оно имеет свою собственную волю, которую необходимо пересилить.
[4]
Перевод Д. С. Мережковского.
[5]
Перевод Д. С. Мережковско.
[6]
Перевод А. Л. Соколовского.
|
|
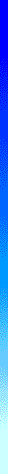 |